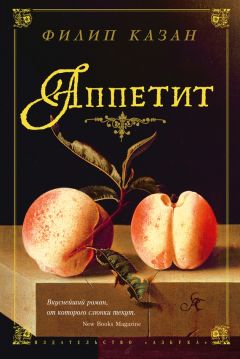Я оставил Проктора в руках недовольных и явно испытывающих отвращение банщиков, восторженно рассказав им о его былом положении в городе Перудже, и поспешил к себе в комнату, где выкопал пару исподнего, заношенную рубашку, старую котту, какие-то залатанные штаны и дублет, в котором я приехал из Флоренции, жестоко потрепанный погодой и ночевками под открытым небом, но все еще более-менее похожий на приличную одежду. Когда я вернулся в баню, Проктор был во второй лохани, сияя сквозь пар, словно святой. Его кожа приобрела болезненный красновато-розовый цвет. Я едва узнал его, потому что грязный фонтан волос исчез, а осталась только мышастого цвета щетина длиной с толщину пальца, не слишком ровно остриженная. Борода тоже была сбрита – судя по всему, вместе с большим количеством кожи. Существо, казавшееся сверхъестественно безвозрастным, словно выдумка художника, призванная заполнить пространство в нижнем углу второсортного алтарного образа, оказалось человеком приблизительно тридцати пяти лет, с правильным и весьма удивленным лицом.
– Отвратительно, – буркнул какой-то банщик, достаточно громко, чтобы услышал я, и Проктор тоже.
– Заткнись и дай ему то, что он просит! – велел я ему. – И венгерской воды добавь.
– Я готов! – сообщил Проктор. – Я сварился! Я обожжен, ободран и потушен!
Он поднялся из лохани, демонстрируя бледный, как труп, костяк, покрытый рубцами, ссадинами и следами укусов насекомых. Кожа на его ребрах выглядела тонкой, словно ткань, через которую отжимают сыр. Он прикрыл срам, сложив длинные руки, и на мгновение стал похож на стоящую на боку фламандскую картину мертвого Христа, которую я однажды видел. Я подал знак банщикам, и они неохотно подошли, держа перед собой полотенца. Они пихали и тыкали его, а он стоял, сжавшись, на мокром мраморном полу, уставясь в потолок, стиснув желтые зубы от стыда или боли. Когда Проктор высох и в его скальп и грудь было втерто некоторое количество венгерской воды, я привел его к кучке моей старой одежды. Он стоял на полусогнутых ногах и таращился на нее, пока я не взял исподнее и не протянул ему.
– Могут не подойти, – сказал я, оглядывая его тощий зад, похожий на пару свиных щек на одной тарелке.
Его взгляд метнулся от белья ко мне и обратно. Он нахмурился, потом протянул руку, другой по-прежнему прикрывая свое мужское естество, и поднял белье перед лицом. Что-то вроде узнавания просияло в нем, и он наклонился, резко сложившись в пояснице, так что я услышал, как хрустнули позвонки, вставил ногу в штанину исподнего, подтянул его выше торчащих коленок до пояса. Я показал ему завязки, и он туго затянул их. Рубашка оказалась большой, и снова он затянул каждую веревочку, как будто пытался заключить в тюрьму не принадлежащее ему тело. Дальше пошли штаны, и под конец я помог ему с дублетом. Даже одевшись, Проктор не шевелился, а стоял, чуть сгорбившись, и тревожно глядел в потолок.
– Мы пойдем за рубцом? – спросил я.
Его голова мотнулась, и он зафиксировал взгляд обведенных белым зрачков на моем лице, на точке где-то посреди лба.
– Проктор, – повторил я, – ты голодный?
Он еще посмотрел, потом поморщился, как будто его пронзил спазм боли или чего-то другого. Яростно замигал, потом затрясся, как собака. Великоватая одежда надулась и опала.
– Я чиновник, – пробормотал он. – Чиновник. В Перудже, в Перудже…
– В Перудже обедают, и в Риме тоже. Пойдем же.
Мы отправились к продавцу рубца в аркаде Сан-Пьетро ин Винколи. Однако на этот раз Проктор шел позади и пересек площадь только тогда, когда я купил миску еды и протянул ему, как подзывают собаку. Мы дошли до ступеней церкви и сели там.
– На что похожа Перуджа? – спросил я, и Проктор посмотрел на меня, ошеломленный, и лицо его помертвело. – Она как Рим? – (Он моргнул.) – Там земля плоская? Холмистая? А женщины красивые?
Он снова моргнул и опустил голову чуть ли не в миску. Он начал черпать и хлебать.
– Давай же расскажи, – настаивал я. – В Перудже…
– Я купан, но не куплен, – огрызнулся он.
– Извини, – сказал я. – Я думал…
– Обрит, как овца, – пробормотал он. – Обрит и обмазан. Обрит и обмазан.
Он прикончил свой рубец и сел, сгорбившись и глядя в пустую миску полуприкрытыми глазами. Из полузверя, каким он выглядел прежде, Проктор превратился в растерянного мужчину, еще молодого, в болтающейся чужой одежде. Теперь он стал не просто человеком, но пугающе беззащитным. Мне и в голову не приходило, что простой акт милосердия может привести к таким последствиям.
– Где ты спишь? – спросил я.
– Сплю? – Его голова дернулась, белки глаз стали шире, чем когда-либо. – Обрит и обмазан! – выкрикнул он.
– О Господи, нет! – поспешно сказал я, поняв, что он подумал. – Мастер Проктор, я не предлагаю тебе спать со мной! Я просто спрашивал, каковы у тебя условия для сна. Приют, может быть? Или…
– Канава, яма, дерево, стена, дверь. – Он сплюнул.
– О! Но должно же быть место, где ты предпочитаешь спать, когда у тебя есть какие-то средства?
– Предпочитаю? Средства? – Он замигал. – Белые Отцы добры, когда есть монета. Когда, когда, когда… В Перудже меня называли Проктор, ты знаешь. И я ведь все еще Проктор, так? – Он обнюхал себя, свои руки, подмышки, пробежался скрюченными пальцами по неровной щетине на голове. – Я какая-то мартышка, – заключил он.
– А где эти Белые Отцы?
– На Борго.
– Тогда идем туда.
– Нет!
– Ты же не можешь спать в канаве.
– Молодой человек, я могу спать, где пожелаю, – проскрипел он.
– Молодой человек? Это ты молодой человек. Как думаешь, Бог доволен, что ты бродишь по Его священному городу, похожий на какого-то языческого демона?
– Что ты знаешь о Боге, а? Ты что, думаешь, Бог наблюдает за такими вот мартышками, как мы с тобой, в Риме? Бог говорит со своими детьми в Перудже. А здесь другие голоса.
– Ладно, послушай мой голос. Я хочу, чтобы ты спал в каком-нибудь чистом безопасном месте.
– Ты выбрал меня. Ты меня выделил.
– Это ты выделил меня! Мастер Проктор, ты месяцами досаждал мне своей вонью и бормотанием. Теперь я плачу́ услугой за услугу. Отведи меня к этим Белым Отцам, и, клянусь, я оставлю тебя в покое.
Монахов-кармелитов совсем не тронуло явление вымытого Проктора, однако они приободрились, когда я открыл кошелек. Сумма за месяц была ничтожно мала, так что я заплатил сразу кардинальским серебром и оставил Проктора глазеть на его новый соломенный тюфяк.
Я вернулся в свою комнату и написал длинное письмо Тессине, с наброском в одном углу Проктора, каким он был до бани, хотя о нем самом не рассказал. Я почему-то чувствовал: то, что я сделал с нищим, – вторжение, а не настоящее милосердие, и это ощущение не уйдет. Тем вечером, когда я мрачно склонил голову, чтобы посмотреть, как мой хозяин мочится в стеклянный бокал, а потом взял теплый сосуд и принялся его изучать, словно алхимический сосуд, содержащий некое чудо трансмутации, я думал о трансформации, учиненной мною над Проктором, который все-таки был человеком, а не животным.
– Ну? – нетерпеливо спросил кардинал.
Он жаждал дурных вестей. Мне пришлось его разочаровать.
– Значительно лучше, ваше высокопреосвященство, – ответил я. – Флегматический кризис миновал. Жар и сухость преобладают. Мы должны поддержать их рост некоторым количеством… – я вздохнул, – некоторым количеством жареной баранины в перечном соусе.
В кои-то веки блюдо, которое мне в самом деле захочется готовить, но я знал, что оценено это не будет. Я мог с тем же успехом сконденсировать овцу и перец в какую-нибудь пилюлю и засунуть кардиналу в зад. Нет, лучше даже не думать об этом. Я уже стал блюстителем мочи моего хозяина и не хочу сделаться ответственным еще и за его задний проход.
Кардинал все так же смотрел на меня, закаменев от ожидания. Я снова вздохнул, обмакнул кончик мизинца в теплую жидкость, прикоснулся им к языку. Зазубренная вспышка синюшно-бордового обожгла мои органы чувств, а за ней последовала унылая рассольная и металлическая волна, которая, по счастью, исчезла довольно быстро. Я остался со слабым привкусом свиных почек и уксуса.
«Ну и кто здесь безумец?» – подумал я. Пить мочу человека, пытаясь вылечить его от болезни, которой у него нет, когда город полон таких людей, как Проктор, игнорируемых врачами – и настоящими, и самозваными, вроде меня. Каждый день мы проходили мимо этих второсортных существ, чтобы давать своим господам то внимание, которого они так жаждали. И вот человек, который был нищим, а сейчас чувствует себя как обезьяна в костюме, – безумец, вброшенный вверх тормашками в мир нормальных людей. И это была моя вина. Ведь предполагалось, что я врач? Что ж, возможно, мне удастся применить скудные знания, полученные на этой службе, для чего-нибудь хорошего. Я попытался помочь человеку, изменив его внешние обстоятельства, но причина болезни таилась внутри. Я не собирался пить мочу Проктора, но ведь есть и другие методы.