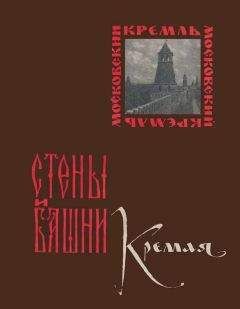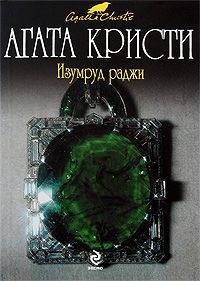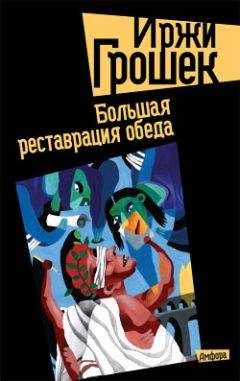— Гляди, Ваня, — смеялся Юрий, — вон лошадка внизу! Ровно кошка ма-а-хонькая!
Злобно хохотал старший брат.
— А погляди-ка, какова будет собачка! — кричал он и, взяв любимого щенка Юрия, маленького, смешного, с разъезжающимися лапками, бросал его с головокружительной высоты.
Он помнил, как в глазах Юрия застывал ужас. Он помнил, как широко раскрывались его голубые, чистые, как весенние незабудки, глаза. А бояре смеялись:
— Ай да и потеха. Упал — не пискнул… Давай еще! Государь великий тешится.
Государь великий тешился. Плакал Юрий, а старший брат шептал ему:
— Молчи… молчи, Юрий… так буду я бросать, когда вырасту, лиходеев моих… Молчи, Юрий, я все припомню…
И с внезапной жестокой шуткой он раз обернулся к брату:
— Хочешь сейчас тебя сброшу?
Он помнил, как передернулось лицо Юрия и покрылись страшной бледностью его щеки, потом закатились глаза так, что видны были одни белки; потом Юрий взметнул руками и, отчаянно вскрикнув, упал и забился в припадке родимца.
То был первый припадок, а за ним пошло и пошло, и Юрий вырос бедным слабоумным князем, а Иван сел на престол отцовский грозным и беспощадным судьею бояр.
Все это припомнил теперь, стоя над постелью брата, московский царь.
Мигали тусклые огоньки бесчисленных лампад; с алых шелковых подушек глядело на царя знакомое детское лицо, белое, как повязка на лбу. И вдруг царь вздрогнул: он ясно увидел в этом лице страшное сходство с лицом своего сына, сырого,[16] болезненного Федора. Та же улыбка, то же выражение глаз, растерянное и скорбное… Неужели и сына его ждет та же судьба?
Он склонился к самому лицу Юрия.
— Брат… Юрий… узнал? Очнись! Узнал?
В голосе его звучала небывалая нежность.
Сознание мелькнуло в глазах Юрия. Он вспомнил то, что так мучило его.
— Брат, — прошептал князь, протягивая к царю худую, прозрачную руку, — брат… Я умру… Жена… твоя жена… Мария… плакала… о сыне… о сыне она убивается… пожалеть ее надо, брат… пожалеть… она бедная…
Он помолчал и тихо, чуть слышно прошептал:
— И мою… мою Ульянушку… блюди, брат…
Больше Юрий говорить не мог, закрыл глаза и забылся…
Царь встал, открыл завесу и крикнул:
— Ульяна! Отходит Юрий… попа нужно — отходную читать…
Пришел священник и нашел князя Юрия без памяти, прочел над ним молитву, причастил и соборовал. Надежды на выздоровление больного не было.
Двор князя Юрия примыкал с одной стороны к ограде Чудова монастыря, с другой — к переулку Вознесенского, с третьей около него возвышался старый собор Николы Гостунского с особо чтимой чудотворной иконой Николы-угодника, покровителя брака.
Служба у Николы только что кончилась; народ хлынул на площадь; свечи были потушены, и дьякон Иван Федорович велел сторожу запирать церковь. Стоя на паперти, с изумлением заметил он старых своих знакомых — боярина Михаила Матвеевича Лыкова с племянником Иваном Сергеевичем, которые несли на руках кого-то живого или мертвого — Бог весть. Лыковы давно уже скрылись в воротах дворца князя Юрия, а гостунский дьякон все еще продолжал смотреть им вслед, заслонив рукою глаза от зимнего солнца.
Кругом уж гудел народ.
— Помер князь Юрий, батюшка наш, помер!
— Помер заступник убогих!
— Убили лютые вороги! Извести хотят царское семя!
— Нишкните! — крикнул дьякон, сбегая со ступеней паперти. — Вишь, Лыковы-то и назад идут.
Он узнал, что князь Юрий жив, только сильно голову разбил, и поклонился князю Лыкову в пояс:
— Сделай милость, князь, отведай у меня на печатном дворе хлеба-соли, дай послушать твоих речей мудрых… Горазд беден я духом, а люблю свет учения, премудрость Божию, паче жизни люблю.
Лыковы переглянулись. Иван Сергеевич сказал дяде:
— А для че, дядюшка, не пойти нам к дьякону? Он же нам покажет и книгу дивную «Деяния апостольские», что весною напечатал, и «Часовник», что, сказывают, к концу идет, и станки, и приборы печатные — дело затейное, дядюшка…
Михаил Матвеевич согласился.
Сквозь толстую стену, в узкую калитку с полукруглым сводом вошли они в печатный дом. По случаю праздника там не работали, но дьякон открыл дверь в палату, где с утра до ночи грохотали валики и нажимы печатных прессов, и показал молодому Лыкову с гордостью на груду громадных листов, испещренных затейливыми буквами, черными и неровными строками, показал на станки, темневшие неподвижно посреди груды бумаг, с винтами и тяжелыми прессами.
Он улыбался; он весь светился восторгом и гордостью, открывая заветную дверь.
— Любишь ты свое дело, Иван Федорович? — спросил боярин Лыков.
Князь Иван Лыков молчал; серые глаза его, полные пытливой мысли, впились в станки, темневшие в глубине.
— Люблю паче жизни, боярин, — сердечно сказал Иван Федорович, — да и не я один! Послал мне Господь товарища! Эй, Петруша! Тимофеич, тут ли ты?
Строгие глаза дьякона вглядывались в полутьму угла. Оттуда поднялась голова с шапкою спутанных черных волос.
— Тут я, — отозвался тяжело и угрюмо помощник Ивана Федоровича Мстиславец. — Где мне еще быть?
— Что делаешь, Петруха?
— Краску глядел. Вишь ты, краска вчера была очень густа.
И, переваливаясь, выполз он в полосу света, огромный, мохнатый, угрюмый, похожий на медведя.
— Не ест, не пьет, а все вокруг станков вертится, — засмеялся дьякон. — Пойдем, Петруха, хоть малость перекусить. А ты, Иван Сергеевич, батюшка, коли хочешь, приходи завтра на печатное наше дело поглядеть.
Вчетвером уселись они за стол в соседнем тесном покое, а дьяконица прислуживала им. И у нее было такое же сосредоточенное, постническое, почти строгое лицо, как и у ее мужа.
За пирогами рыбными зашла беседа о печатном дворе и о разных затеях царских. Вспомнили стародавнее время, и печатник поник головою.
— Приходит ноне трудная пора, — говорил он задумчиво, — намедни народ, как я шел в собор, на меня пальцами казал, вопил неведомо что… С нечистью будто мы ведаемся, нечистою силою книги печатаем. И то, вишь, слово не свято, что проклятым камнем тиснуто, каким-то заморским винтом завинчено… Прежде, вишь ты, про святых отцов рукописное слово было, так и впредь быть должно.
— Мало ль что зря болтают, — сказал горячо молодой Лыков.
— Оно так, — молвил задумчиво дьякон, — да какое ноне время? Одного этого Петрушку как увидит дурачье московское, так и орет: «Дьякон беса у себя в печатне держит, оттого и ладится у него дело греховное…» Поглядите сами: рожа-то у Петрушки больно богомерзкая, а силища-то, силища…
Мстиславец сидел неподвижно, опершись на громадный кулак и тупо уставясь в одну точку; он грезил о лучшем составе краски, о завтрашней работе, о буквах, стройно складывающихся в согласные строчки и бегущих в широкий мир поведать слово Божие.
Задумался и Иван Федорович, несколько минут молчал.
— Талант великий имеет Петрушка, — с нежностью начал снова дьякон, недаром его сразу разыскал князь Андрей Михайлович Курбский, большой начетник…
Последние слова дьякон произнес, понизив голос и глубоко вздохнув.
Боярин Лыков опустил голову.
— Вместе мы с Курбским на ратном деле под Казанью бились, — сказал он грустно, — вместе по-братски под русскими знаменами на басурманов шли, а ноне он изменником стал!
— С чего бежал он на Литву, дядюшка? — с любопытством спросил молодой Лыков.
— Сказывают, будто испужался, как ливонское дело пошатнулось; кары царской боялся, — уклончиво отвечал боярин. — Как побили нас ливонцы при Невеле, не та была ему у царя честь.
Иван Сергеевич простодушно отвечал:
— А мне сказывали — очень невзлюбил его царь с той самой поры, как невзлюбил Адашева с Сильвестром, и будто в Дерпте еще Курбскому грозили царской немилостью… а в те поры Алексей Адашев помер в заключении в Дерпте. И то все рассказывали князю Андрею, и как Адашев мучился, как смеялись над ним, над Адашевым, а брата Алексея Адашева, Данилу, лютой казнью…
— Нишкни, Ваня, о чем вздумал вспоминать!
— У нас двери крепкие, государь, — сказал дьякон, — жена моя не доносчица и Петрушка тоже.
— А мне так жаль, вот как жаль князя! — раздалось вдруг неожиданно.
Все обернулись на Мстиславца.
— Жалко, — упрямо повторил Мстиславец, — он и в печатном деле толк знал, и в писании; а как привезли станки-то эти заморские, он первый понял, к чему какой винт.
Дьякон засмеялся:
— Всяк кулик про свое болото! А я вот что тебе скажу, боярин: был на Москве поп Сильвестр; был на Москве Адашев; был и князь Курбский; Русь на них, аки земля на трех китах, стояла, а ноне что? Молчишь ты, боярин?
— Молчу, дьякон, молчу…
Низко опустилась голова князя Лыкова; серебряная борода упала до пояса.