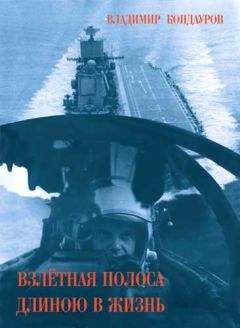5.
В самом начале учебного года студентки уехали на хлопок. С трудом, после нескольких телефонных звонков, узнал о местонахождении Тони.
Колхоз «Победа», оказывается, в сорока километрах от аэродрома. Понятно, что туда «не прогуляешься» — слишком далеко, да и автобусы не ходят. Примерно с месяц поглядывал я на дорогу, уходящую к горам, в сторону «Победы», видел, как проходили мимо авиагородка грузовики с горожанами. Наверное, в одном из них проехала по этой дороге Тоня. Наверное, смотрела с борта в надежде увидеть меня, но «его величество» Марат Природин решил не останавливать длинный кортеж городских машин, идущих на хлопок. «Его величество» решил, что стране нужен хлопок, а потому всякое промедление — это палка в колесо современности. К тому же Природин и сам занимался тем, что вносил свою лепту в борьбу за большой урожай «белого золота». Нашей эскадрилье отвели несколько хлопковых карт в пяти километрах от казарм. Трудились, как и на матчасти, поэкипажно. Мной и тут распоряжался мой командир — Хатынцев. Прекраснейший мужик! Какая бы ни была обстановка — чувство юмора всегда при нем. К обеду я собрал два фартука: килограммов десять, примерно. Это преступно мало, если учесть, что Чары за это же время оттащил на харман пятьдесят килограммов. Хатынцев по этому поводу мудро заметил:
— Да, конечно, вы со своим другом-земляком — молодцы. Крепко работаете...
Шестого октября — полеты. Летали в «зону» звеньями. К обеду красная ракета возвестила об окончании летного дня. И вот тогда подошел ко мне Мирошин и тихонько, но с каким-то испугом, спросил:
— Слышал, Ашхабад провалился?
Я даже не среагировал на это как надо. Подумал лишь: «Действительно, почему-то с Ванькой Мирошиным все беды ходят рядом».
— Как это провалился? Чего ты мелешь?
— Да так и провалился. Говорят, будто под Ашхабадом какое-то подземное озеро. Ну, весь город и пострадал.
Я встревожился. Но не настолько, чтобы поверить этой сногсшибательной новости. Спешу к Хатынцеву. Тот тоже слышал подобное, но успокаивает меня.
— Ладно, пока не волнуйся. Говорят, сначала тряхнуло как следует, потом водой залило. Пока что сплетни...
Зашел в штаб, к замполиту Бабаеву. Тот сдержан и говорит строже обычного:
— В Ашхабаде сильное землетрясение. Есть жертвы. Весь медперсонал нашей дивизии и легкие самолеты мобилизованы на спасение пострадавших.
У меня застревает ком в горле. От страха. От предчувствия страшной беды.
— А как же мне быть? У меня там мама и отец!
— Только без паники, сержант,— строже выговаривает Бабаев.— Примем все возможные меры, чтобы помочь вам. Пока что доступ к месту бедствия разрешен спецслужбам. Не падайте духом!
Чары и Костя перепуганы не меньше моего. Но разговоры ведем пустопорожние. Надо ехать в Хурангиз, а оттуда позвонить в Ашхабад. Спрашивается, зачем? Кто даст звонить, если город разрушен и все телефонные провода оборваны. Костя бежит к Нине, посоветоваться с ней, но тут же возвращается с запиской: «Милый Костик, не волнуйся. В Ашхабаде несчастье. Все мы, медики, сегодня вылетаем туда. Сейчас бегу в санчасть. Оттуда на машине «скорой помощи» — в Хурангиз и самолетом в Ашхабад. Целую крепко. Нина». Я сам прочитал ее записку. «Может, возьмут к себе в самолет медики?» — мелькнула мысль. Не раздумывая больше, сообщаю о своем намерении друзьям и бегу на окраину авиагородка, к дороге, где можно сесть в попутную машину. Останавливаю бензовоз. Шофер — парень из РАО. Он тоже знает о землетрясении и старается помочь мне. Машину ведет на третьей скорости, хотя дорога неважная, можно поломать рессоры. Едем прямо в аэропорт.
В пути видим, как над нами проносятся самолеты. Конечно, они летят в Ашхабад. В аэропорту после беготни и беспрестанных просьб сообщить, где отыскать нашу медбригаду, наконец, узнаю: медики улетели еще два часа назад.
Назад возвратился товарным поездом. Поезд на нашей станции не остановился, пришлось спрыгнуть на ходу, с подножки. Ушиб ногу. Кое-как доковылял до казармы. Устал смертельно. Ночь провел без сна, ища утешение в надежде: «Может быть, отец и мать живы?» На другой день почтальон Фролов приносит телеграмму. Читаю: «Марат, мы оба живы. Отец ранен. Служи, не волнуйся». У меня словно гора с плеч свалилась.
Как хорошо, что живы! Но все равно, ехать надо, им же нужна помощь! Опять иду к Бабаеву, показываю телеграмму.
Отправился я в Ашхабад на третий день после землетрясения. Больше суток проторчал в жестком солдатском вагоне.
К Ашхабаду подъехали рано утром. Здание вокзала полуразрушено. Рухнула центральная часть. Вход завален горой кирпича и железобетонными балками. Лишь несколько белых колонн, за которыми — просторный айван с окнами в два этажа, напоминают о былой красоте этого здания. Приехавшие пассажиры молчаливо, с опаской обходят руины. Душу охватывают страх и жалость. На привокзальной площади — палатки. Дальше на улице Октябрьской палатки тоже. И всюду руины. Одни здания превратились в бесформенную груду, другие свалились на бок, крыши свисают до земли, словно нахлобученные на лоб фуражки.
Час ранний, но город давно не спит. Все в движении. Тарахтят моторы автомашин, бесшумно по глубокой пыли движутся брички, повсюду стук: люди сколачивают себе жилье — из досок, кусков фанеры. Всюду дымят костры. Холодновато. Дует резкий ветер, небо обложено свинцовыми тучами. Дождя пока нет, но чувствуется — вот-вот пойдет. Сквозь дым и утреннюю мглу едва просвечиваются купол бехаистской мечети и башня текстильной фабрики. По этим ориентирам я и отыскиваю местонахождение своего прежнего жилища. Иначе бы заблудился, потому что города как такового не существует: нет ни кварталов, ни улиц. Есть гигантское месиво. Я спешу домой, на улицу Чехова, и меня неприятно поташнивает от тоскливого волнения и приторно-сладкого запаха смерти. Тысячи погибших уже откопаны и отвезены на кладбище, но раскопки все еще продолжаются. Работают военные саперы. Работают медики, съехавшиеся со всех концов страны. Похоронные команды в черных халатах. С непривычки жутко смотреть, как они вытаскивают из-под обломков распухшие, обезображенные трупы.
Я добираюсь до своей улицы и вижу: дом, в котором мы жили, стоит, скосившись набок, весь в трещинах. Он двухэтажный, но перекрытие между этажами рухнуло, завалив весь низ: подъезд, коридоры и комнаты. Я останавливаюсь, не зная, куда мне идти дальше. Палатки, хижины из фанеры, шалаши из кошм и мешков. Но где же мои-то? В каком жилище? Слышу где-то рядом, за разваленным домом, причитания. Иду туда. Здесь собралась небольшая кучка народа. Откапывают свалившийся дом Ашота. Под обломками — жена и дочь. Сам он в день землетрясения был в командировке, в Москве. Потом сразу не мог попасть в Ашхабад. Ночью, наконец, прилетел самолетом, и вот — картина. Дом рухнул. Жена и дочь погибли. Жив только трехгодовалый сын. Жену и дочь накрыло стеной и крышей. Я подошел в тот момент, когда Ашот, разбрасывая кирпичи и глину, добрался до спинки кровати и коснулся пальцами лица жены. Фронтовик, не раз видавший с глазу на глаз смерть, сейчас дрогнул: слезы покатились по его лицу, и он заплакал, как ребенок. Я стою рядом с матерью. Она не замечает меня. Она охвачена горем. И меня трясет, я не могу окликнуть ее. Меня раздирает скорбь за Ашота. И погибшую тетю Фиру жаль. И дочь их, Люду.
Превозмогая оцепенение, я подхожу к Ашоту и начинаю откапывать его жену. Мне приходят на помощь еще чьи-то руки. И вот уже женщины берут Ашота за плечи и уводят в сторонку... Кровать смята, голова женщины между спинкой и потолочной балкой. Жутко смотреть. Я выношу погибшую на дорогу и только тут слышу чей-то голос.
— Зиба, посмотри, да это ведь Марат! Сын твой! Ну, конечно, он!
— Марат! Сынок! — вскрикивает мать. И я вижу, как из глаз ее текут слезы.
Я подхожу к ней, изо всех сил стараясь держаться с достоинством, по-мужски. Поцеловав ее сдержанно, обнимаю за плечи и тихо говорю:
— Я приехал в отпуск. На десять дней. Как здоровье отца? Где он?
— Он в Баку, — говорит мама и отводит меня в сторону, к палаткам. — Ему раздробило ногу. Отрезали ногу до колена, — вдруг всхлипывает мать. — На войне был, цел остался, всего одно ранение в плечо получил, а тут ногу потерял. Ох горе, горе... У других — видишь, какая участь?
Мама вводит меня в палатку. Оказывается, она здесь живет. Посреди палатки ржавая жестяная печка с такой же жестяной трубой, тянущейся вверх. Около печки кровать и несколько ящиков. На одном из них плошка с фитильком. На других — помятые чашки, кружка и бачок с водой. И больше ничего. Ни дивана, ни книжных шкафов. Мама, видя мою растерянность, торопливо говорит:
— Все там, все завалило. И вещи, и книги...
— А если попробовать откопать?
— Трудно будет одному. А мне и вовсе не под силу было. Спасибо солдатам-саперам: убитых и раненых вынесли из-под обломков. До вещей руки не доходят. Некогда, сынок.