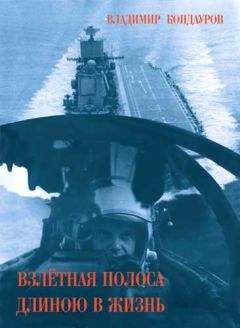— Марат! Сынок! — вскрикивает мать. И я вижу, как из глаз ее текут слезы.
Я подхожу к ней, изо всех сил стараясь держаться с достоинством, по-мужски. Поцеловав ее сдержанно, обнимаю за плечи и тихо говорю:
— Я приехал в отпуск. На десять дней. Как здоровье отца? Где он?
— Он в Баку, — говорит мама и отводит меня в сторону, к палаткам. — Ему раздробило ногу. Отрезали ногу до колена, — вдруг всхлипывает мать. — На войне был, цел остался, всего одно ранение в плечо получил, а тут ногу потерял. Ох горе, горе... У других — видишь, какая участь?
Мама вводит меня в палатку. Оказывается, она здесь живет. Посреди палатки ржавая жестяная печка с такой же жестяной трубой, тянущейся вверх. Около печки кровать и несколько ящиков. На одном из них плошка с фитильком. На других — помятые чашки, кружка и бачок с водой. И больше ничего. Ни дивана, ни книжных шкафов. Мама, видя мою растерянность, торопливо говорит:
— Все там, все завалило. И вещи, и книги...
— А если попробовать откопать?
— Трудно будет одному. А мне и вовсе не под силу было. Спасибо солдатам-саперам: убитых и раненых вынесли из-под обломков. До вещей руки не доходят. Некогда, сынок.
— Мама, давай я возьму тебя с собой в Хурангиз? Там у меня хорошие друзья. Будешь у них жить.
— Да ты что, Маратка? — улыбается благодарно мама. — Ты все еще у меня ребенок. Да разве можно сейчас оставить людей в беде? Все бы ашхабадцы могли выехать: у каждого родственников и знакомых в других городах много, но не выезжают же! Кто же будет восстанавливать город?
Я слушаю ее с удивлением. Думал, увижу ее сгорбленную, сломленную горем, а она словно наш замполит рассуждает. Ай да мамуля!
— Сейчас я тебя угощу свиной тушенкой и копченой рыбой, — говорю я, развязывая вещмешок.
— Не надо, Маратка, — дотрагивается она до моей руки. — Продукты у нас, какие хочешь, есть. - Она снимает крышку с ящика и достает копченую колбасу, сливочное масло в банке, сахар. Ставит на ящик и поясняет: — Тут у нас — полный коммунизм. Продукты развозят на машинах и выдают бесплатно. На вот тебе, к чаю, — подает она шоколадку в красной обертке...
За завтраком она начинает рассказывать о подробностях той страшной ночи. В два часа ночи, когда они с отцом уже спали, закачалась земля и пол под ними рухнул вниз. Оба провалились вместе с кроватями. Падая, отец, видимо, пытался встать. Занес ногу над спинкой кровати, и в этот момент повалился книжный шкаф и ударил отца по ноге. Мама, как лежала в постели, так и осталась лежать. Только ее почти всю засыпало сверху пылью и известкой. Сначала она потеряла сознание, а когда очнулась и поняла, что жива, принялась звать отца: «Саша, Сашенька!» — «Помоги мне, Зиба!» — простонал он в ответ. Мама отыскала его, накрытого шкафом. Шкаф лег на обе спинки кровати. И если бы не нога, которая оказалась между спинкой и шкафом, отец бы тоже отделался легким испугом. Но именно это роковое «если бы» и есть то, что мы называем словом «судьба». Если бы дядя Ашот не уехал в командировку, он бы тоже погиб вместе с женой и дочерью. Но — судьба! Мама продолжает рассказывать о том, что все жильцы нижнего этажа погибли. Только ровничница Марал работала в третью смену и осталась цела, да старик Овезклычев — сторож гастронома уцелел. Остальных на другой день вынесли из-под развалин саперы. Текстильная фабрика уцелела, всего одна трещинка в здании. На совесть, видимо, строилась.
Без десяти девять мама уходит в райисполком. Я выхожу на улицу, и меня сразу захватывает атмосфера торопливого проявления жажды жизни. Соседи строят времянку. Муж сбивает из старых бревен крестовину, жена вытаскивает из развалин куски фанеры. На узкой улочке между двумя свалившимися порядками домов стоят машины и толпы народа. Привезли хлеб, сахар... Поодаль — керосиновая бочка. Отовсюду доносится стук молотков: ашхабадцы строят времянки. Изредка раздаются выстрелы из автомата. Я спрашиваю у соседей, что бы это значило. Они беспечно отвечают: солдаты стреляют по одичавшим собакам, слишком много их развелось. Кто-то свистит на всю улицу, словно соловей-разбойник. Это голубятник, хромой Арташес. Ему что мир, что война — один черт. Лишь бы были голуби. Целая стая голубей кружится над развалинами, все выше и выше забираясь в небо. Я смотрю и вспоминаю, как этот Арташес продал мне пару белохвостых «бабочек». С год или больше я держал их и чуть было не превратился в завзятого голубятника, но вовремя вмешался отец. От голубей только и остались строчки:
Забыты голуби давно.
Но, помню, мне они открыли,
что небо синее дано
тому лишь, у кого есть крылья.
Медленно приближаюсь я к нашему развалившемуся двухэтажному дому. Одна стена вывалилась совсем, вторая наклонилась. Крыша съехала набок. Окна перекошены. Обошел дом, ища поудобнее место, чтобы пробраться внутрь. Остановился, раздумывая. Вдруг слышу сзади знакомый голос:
— Ты что ли, Марат? С приездом...
Это — землячка моего отца, текстильщица Вера Федоровна Улыбина. Она и мой отец — оба из Подмосковья. Реутовцы. Знают друг друга с самого детства. Через отца Улыбина знает и меня. Впрочем, и мама тоже очень давно с ней дружит. Там, еще в Реутове, познакомились.
— Хочу вот пробраться в дом, — говорю Улыбиной. — Мама говорит, что книги все целы, только завалены.
— Зачем тебе книги-то? — не понимает меня Вера Федоровна. — Печь что ли разжигать? Да тут и без книг барахла всякого полно. Вон сколько старых досок и щепья всякого!
— Книги читать надо, а не жечь, — вразумляю я ее. — Учение — свет, а неученье — тьма.
— Да какие сейчас книги! — ужасается она. — Люди времянки строят. Того и гляди дождь пойдет, а то и снег, а ему книги понадобились.
По-своему она, конечно, права. Впрочем, и я не собирался сидеть среди развалин и почитывать книжки. А если уж признаться честно, то меня сейчас больше всего занимают отцовские дневники. Пять толстых тетрадок в черных корках. Я их хорошо помню. Они всегда мне попадались под руку, когда я отыскивал в шкафу какую-нибудь нужную книгу. Но не говорить же тете Вере о дневниках. Узнает, что ее земляк Александр Петрович Природин занимался в юности писаниной — ужаснется еще пуще.
Медленно поднимаюсь по грудам развалин вверх, затем осторожно вхожу в дом. Крыши над головой нет, она съехала в сторону. Над головой холодное пасмурное небо, но все же светло, и я без труда нахожу свой шкаф. Засучив рукава, сметаю подошвами сапога и руками штукатурку, добираюсь до стенки шкафа. Он лежит дверцами вниз. Надо переворачивать его или взламывать заднюю стенку. Перевернуть одному невозможно, слишком тяжел. Вышел из развалин, взял у тети Веры топор, и опять — в дом. Жалко портить шкаф, может быть еще и пригодился бы. Но что поделаешь! Вырубив заднюю стенку, начинаю вытаскивать книги. Они целехоньки, даже не запачкались пылью. Опять бегу к Улыбиной. На этот раз за мешком. Складываю книги в мешок, волоку к себе в палатку, вываливаю на пол и опять — за книгами. А вот и отцовские тетради! Слава аллаху, целы! Если не пригодятся мне, то отец-то за них наверняка скажет спасибо. Ему они дороги.
Тетрадки я положил отдельно от книг, на ящик. Возьму с собой, в Хурангиз, там и почитаю. А сейчас меня все больше и больше начинает тревожить совесть. Действительно, все люди заняты устройством жилищ, торопятся, ибо зима на носу, а я увлекся книжками. Неужели же мне не под силу сколотить хотя бы каркасный сарайчик? Жаль вот только: нет ни топора, ни пилы, ни гвоздей. Может, сходить на фабрику, в механический цех? Там Ваня Гаранин, Федя Беспалов — старые мои приятели, вместе в футбол играли, чем-нибудь помогут. Шагаю к фабрике узеньким переулком, образовавшимся между свалившимися частными домами армян, вхожу в старый текстильный городок. Здесь тоже бараки рухнули. Но основание у них цело, и люди уверенно ведут реставрацию. Судя по всему, текстильщики сколотили свои строительные бригады, поскольку трудятся сообща. Остановился, смотрю, как они вкалывают, приглядываюсь — нет ли кого из друзей. Вдруг слышу:
— Здорово, Природин-младший! С приездом. Как отец? Есть что-нибудь из Баку?
— Да, есть... Прислал... Ампутировали ногу, — отвечаю я Коле Кулиеву, одному из ближайших товарищей отца. Этого Колю отец, говорят, силой затащил в Реутов осваивать профессию. Теперь он — лучший помощник мастера.
— Надолго прибыл?
— На десять дней. Матери вот думаю помочь. В палатке живет.
— Что ж ей исполком что ли помочь не может?!
— Исполком своим помогает в последнюю очередь.
— Молодец, политику знаешь! — смеется Коля и слезает со стены. — Ну, здорово, — подает он руку. — Чего там у вас: бревна, доски есть?
— Да этого добра полно, — уныло говорю я. — Из нашего двухэтажного можно другой такой дом построить. Только как одному-то?