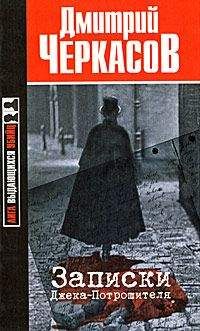Огоньки висячих лампад навевали мистический настрой, и ей казалось, что Бог где–то здесь, рядом, и не оставит Своей Благодатью. Ведь это Он позавчера спас мужа, дочерей и её от смерти…
Помолившись и вытерев повлажневшие глаза, она прошла в спальню и, перекрестившись, легла на широкую кровать, приготовившись ожидать мужа сколько потребуется, хоть до утра.
Ей не нравился Святополк—Мирский, хотя бы за то, что ему благоволила Мария Фёдоровна.
— Что случилось? — стараясь скрыть нервный трепет, спросила, когда супруг, мягко ступая по толстому ковру с розово–лиловым ворсом, направился к ложу.
Но Александру выдал чуть дрогнувший голос, и он почувствовал её волнение и, почему–то, стал счастлив от этого.
— Всё в порядке, Аликс. Всё в порядке, — лёг рядом с ней. — Великий князь Сергей меня беспокоит. Уговорил подписать с первого января прошение об отставке с поста генерал–губернатора… Но, слава Богу, дал согласие остаться главнокомандующим войсками Московского военного округа. А Мирский сказал, что в столице спокойная обстановка и повода для тревоги нет. Так, маленькие негативные нюансы, — зевнул Николай, подумав, что завтра с утра следует поохотиться в парке на ворон, чтоб успокоиться от этих нюансов…
Поздним субботним вечером, со стороны заметённого снегом Марсова поля, у главных ворот казарм лейб–гвардии Павловского полка, что выходят на Константиновскую площадку, остановились битком набитые сани.
Покряхтев, из них вылезли два солдата и расплатились с извозчиком.
— Никита, надбавь сверху пятачок извозцу. Хорошо довёз нас с Николаевского вокзала, подошёл один из приезжих к пляшущему от холода часовому в тулупе и тёплых рукавицах.
— Стой! Стрелять зачну! — на всякий случай произнёс тот, и закрутил закутанной в башлык головой, припоминая, где оставил оружие.
Довольный жизнью извозчик слез с облучка и помог дотащить один из трёх мешков к воротам, опрокинув приткнутую к ним винтовку.
— Вон винторез твой в сугроб укатился… Во народ пошёл. Баба ухват у печи не уронит, а у этого на посту винтовки летают, — миролюбиво заворчал Сидоров. — Спасибо, брат, — поблагодарил извозчика.
— Снегу–то. Будто в нашем цейхгаузе нафталин рассыпали, — подошёл к часовому Козлов. — Живут же люди, — позавидовал он. — Мало того — в валенках, так ещё и кеньги на них нацепил.
— А я и думаю, чего это он как конь копытами топает? Оказывается, деревянные калоши на валенки напялил, — заржал Сидоров, помахав отъезжающему извозчику.
— Хто такие будете? — строго поинтересовался часовой, поднимая винтовку.
— А ты вытащи глаза из башлыка и погляди, — сунул под синий солдатский нос свой погон Сидоров.
— С тобой, нижний чин Сухозад, господин страшный.., тьфу, старший унтер–офицер Сидоров разговаривает, и младший унтер–офицер Козлов, — солидно обошёл дневального Никита.
— Братцы-ы! Да неужто вы? — вновь прислонив оружие к воротам, полез обниматься часовой. — А я слышу — знакомый голос, а не пойму, от кого исходит. Нашивок–то нахватали-и, — любуясь однополчанами и отступив от них на шаг, по–бабьи всплеснул руками в рукавицах. — Думали, уж живыми и не увидим вас, — высморкался в башлык.
— Ты Панфёр, за мешком пригляди, пока мы эти два в казарму снесём, — развязав верёвочку и пошарив внутри, выудил пирог в добрую ладонь Козлов.
— Да посторожу, не сумлевайтесь, — обрадовался гостинцу часовой. — А то великий князь Константин так и шастает туды–сюды возле ворот…
Составив мешки у тумбы дневального по роте, Сидоров почесал бровь, оглядев мирно спящих солдат.
— Пойдём, Никита, к дежурному по полку являться. А как офицеру доложимся, к фельдфебелю нагрянем. А после уж земляков соберём.
Доложив о прибытии штабс–капитану Яковлеву, который, приняв рапорт, с чувством пожал им руки и отпустил, пошутив, что сейчас занесёт их визит в камер–фурьерский журнал, бойцы направились к фельдфебелю.
Держа под мышкой приличных размеров свёрток и по привычке волнуясь, Сидоров осторожно постучал в дверь.
— Разрешите войтить, господин фельдфебель.
— Кого нелёгкая после отбоя несёт, — услышали сонный голос и перед ними предстал белый силуэт в кальсонах. — Это что за ячмени на ротном глазу? — поинтересовался, сощурив глаза, бог и царь нижних чинов 1‑й роты Павловского полка. — Здорово щеглы, — узнал прибывших. Проходите. Явились — не запылились, — глянув на бывшего ефрейтора, проглотил дальнейшую тираду о вставленных в задницу перьях, узрев его награду на груди, приравнявшую эту «обувную щётку» к нему — фельдфебелю роты Его Величества и Георгиевскому кавалеру: «Ну зачем я упросил начальство отправить полкового недотёпу на войну. Вот и стал, благодаря мне, героем», — уселся за стол, приглашая пришедших устраиваться рядом.
Поглядев, дабы унять душевные муки, на картину «Въезд на осляти», произнёс, внутренне морщась и страдая — картина на этот раз не помогла:
— Ну что ж, господа ерои, следует вечер отполировать и послушать ваши рассказы, — поднявшись, со вздохом достал из шкапчика бутылку водки.
— А камчадал[2] мой на посту перед воротами стоит. Видали, поди. Так что придётся самим вертеться. Ты, Левонтий, не в службу, а в дружбу, — глянул на солдатский Георгий, — за ротным писарем сходи. Ты, Никита, за нашим полковым знаменосцем Евлампием Семёновичем Медведевым слетай. Он своего друга–музыканта позовёт, что на барабане играет.
— О-о! Музыканты — они фасонистые, — убегая, успел вставить Козлов, — писарям нипочём не уступят.
— А я фельдфебеля второй роты приглашу, Иванова Василия Егоровича. Вот и славно посидим, — благостно оглядел разложенные на столе куски солёного сала, вареной гусятины, белого хлеба, пирогов и целый свёрток сушёной тарани. — С утра рота в бане была, — с набитым ртом, через некоторое время, вещал Пал Палыч, морально почти смирившись с преображением ротного раздолбая в люди. — Потом робяты полы в ротном помещении мыли. Занятий по субботам, как знаете, не бывает, так что посидим, побалакаем, чайку вволю попьём, и я вам кровати укажу…
Только легли спать, как «фасонистый» барабанщик пробил тревогу, а дневальный по роте дурным голосом заорал:
— Строиться-я!
«Что за дела? — недоумевал Пал Палыч. — Воскресенье же», — ловко отбил тарань тесаком, очистил и сжевал, чтоб водкой не пахло, глянув по привычке на картину, а затем на подаренные фотокарточки. На одной — горе и раздражение Павловского полка, а ныне георгиевский кавалер Сидоров, смело подставлял крупнозубому, замахивающемуся винтовкой японцу гвардейскую грудь. На другой — Козлов, несмотря на перебинтованную руку, хреначил врага, держащего огромную дубину.
Согласно приказа генерал–майора Щербачёва, 1‑й батальон лейб–гвардии Павловского полка под командой полковника Ряснянского, в 9 утра расположился во внутреннем дворе Зимнего дворца.
К огромной обиде Евгения Феликсовича, руководивший охраной Дворцовой площади Щербачёв своим приказом старшим назначил командира 2‑го дивизиона лейб–гвардии Казачьего полка полковника Чоглокова, под рукой у которого находилось всего полторы сотни казаков.
В результате целых два часа он — то благодарил перед строем прибывших с театра военных действий унтеров, то распекал капитанов Лебедева и Васильева.
Пал Палыч, стоя в строю, мысленным взором обратился к картине «Въезд на осляти», а затем, в спокойном уже состоянии души, перебирал в памяти рассказы вновь испечённых георгиевских кавалеров, удивляясь, почему до сих пор наша армия не разгромила японцев: «Ведь на привалах они веерами обмахиваются, словно мадамы, а на фотографии своими глазами видел у японца косичку. Ну, бабы — они и есть бабы… Лишний раз убедишься, что ничему путному сейчас солдат не учат.., ежели такие, прости осподи, сражатели, унтерами стали и кавалерами, — забывшись, чуть не плюнул в строю. — Нам–то здесь уютно, а вот три роты четвёртого батальона под командой полковника Сперанского на Троицкой площади поставили… Помёрзнут робяты».
В 11 дня Ряснянский перешёл в добродушное настроение, ибо Чоглокову с его казаками Щербачёв приказал спешно выдвигаться на Николаевский вокзал в распоряжение генерал–майора Ширма.
«Вот там пусть за ширмой и прячется», — довольный каламбуром, закурил сигару.
Утром воскресного дня Рутенберг с трудом растолкал Гапона.
— Отче, девять часов уже, — сдёрнул со священника одеяло. — Ну и нервы у вас, батюшка. Я всю ночь не спал, — погладил рукоять нагана за поясом: «Уснёшь тут… Азеф дал задание любой ценой… Как это он выразился?.. Дискредитировать царя в глазах народа. Или, если представится случай и царь примет делегацию — ликвидировать его…»
И пока Гапон пил чай, хмурился, вспоминая записку от теоретика партии Чернова, что передал ему Азеф: «Следует разбить триединство, на котором стоит Россия: Православие. Самодержавие. Народность. Прежде всего, следует выбить из–под монархии главную опору — народное доверие. — Всё–таки умный человек наш Чернов, — тоже налил себе чаю и взял со стола баранку. — Мы создадим повод для народной мести царю… А посеет бурю поп Гапон», — исподлобья глянул на пьющего из блюдечка чай священника. — Ишь, сеятель бури… Губы–то как вытягивает на кипяток дуя, — чуть не рассмеялся Рутенберг и тут же осудил себя: — От нервов, наверное… Чего–то колотит всего».