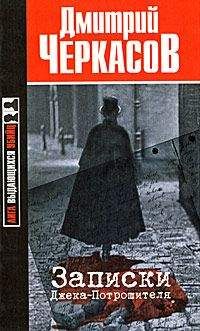— Поднимайся, Георгий, уходить надо.
Не обращая внимания на крики и стоны, где ползком, где пригнувшись, они добрались до пропахшей кошками подворотни и забившись в угол перевели дыхание.
— Петя, не бросай меня, — дрожа губами, несколько раз повторил Гапон, с удивлением заметив в руках товарища неизвестно откуда возникшие ножницы.
Безо всякого почтения сбив с попа шапку, Рутенберг грубо стал остри- гать длинные космы, прикрывая собой Гапона, дабы кто–нибудь из рабочих, забежавших в подворотню, не увидел его и не убил.
Глядя на растерянное безвольное лицо, временами морщившееся от боли, когда ножницы в дрожащей руке выщипывали волосы из головы, Рутенберг решил, что следует придумать легенду об этих минутах: «Ну не рассказывать же потом, что народный вождь, трепеща телом и дрожа губами, шептал: «Петя, не бросай меня». Следует поведать, что подбежавшие рабочие поцеловали священнику руку и поделили между собой остриженные волосы, в то время, как отец Гапон суровым голосом произнёс: «Нет больше Бога! Нет больше царя!»
— Пе–е–тя! Нас не убьют? — заплакал Гапон, растирая слёзы рукавом шубы.
— Раз до сих пор живы, то не убьют, — выбросил ножницы и револьвер Рутенберг.
Голова его стала удивительно ясна. Он даже сам удивился этому.
— Георгий, надо уходить отсюда, — поднял и с трудом довёл безвольное, словно из киселя, тело, до ворот, увидев у раскрытой створы мёртвого человека: «Следует переодеть батюшку», — ударил его кулаком в скулу, чтоб тот разозлился и пришёл в себя.
Но удар не подействовал. Качнув головой и скорчив плаксивую гримасу, Гапон всхлипнул, выдув из носа огромный пузырь.
«Словно шарик воздушный надул», — совершенно успокоился Рутенберг и стал снимать с убитого испачканное кровью пальто.
— Сбрасывай шубу, отче, да пальто надень, чтоб Николай при встрече не узнал, — пошутил, удивившись себе, и рассмеялся, глядя на дрожащего священника, с ужасом воззрившегося на его смеющееся лицо.
— Ты чего, Мартын? — начал тот приходить в себя, надевая пальто и пачкая руки в чужой крови.
Застегнув пуговицы дрожащими пальцами, поднял к лицу кровавые ладони, и они затряслись, а слёзы вновь полились из глаз.
— Я убил их! — причитал он, закрыв лицо руками… — Я убил их… — зашипел, перейдя на шёпот, чуть опять не потеряв сознание.
Хладнокровно обтерев платком кровавое от ладоней лицо, Рутенберг спокойно, будто на пикнике в дружеской компании, произнёс, брезгливо глядя на земляка:
— В город пробираться надо, и у знакомых спрятаться.
После этих слов Гапона охватила нервная лихорадка:
— Да! Да! Прятаться надо… Кровь! Кровь кругом, — шептал, словно в бреду.
«Ты теперь нигде от этой крови не спрячешься», — повёл его дворами и проулками, а в голове неожиданно возникли слова Азефа, произнесённые при последней встрече: «Вдумайтесь только, какое это величие — использовать веру в Царя и Бога для революционных замыслов».
Поплутав по улицам, Рутенберг с Гапоном вышли к особняку одиозного миллионщика Саввы Морозова, где их приняли по высшему разряду.
Отмыв от крови лицо, вызвали «жана»[3], который, профессионально топыря мизинец, подстриг священника, попутно замучив вопросом: «не беспокоит-с», и затем аккуратно сбрил бороду.
«Ну, чисто поп–растрига», — мысленно хмыкнул Рутенберг.
Гапона переодели во всё чистое и накормили.
Подумав: «Хотя это чистой воды нелепица — а вдруг за нами следили?» — Рутенберг повёл Гапона на квартиру к писателю Горькому.
Выпив здесь стакан вина, и окончательно успокоившись, по совету окружившей его интеллигенции, написал в Нарвский отдел записку, продиктованную Рутенбергом и Горьким: «У нас больше нет царя! Рабочим надо начинать борьбу за свои права. Завтра я к вам приду, а сегодня занимаюсь вопросами на благо общего дела».
Вспомнив недавние события прослезился, затем выпил для успокоения второй стакан, и взбодрившись, поддался на уговоры писателя выступить перед интеллигенцией в помещении Вольного Экономического общества.
— Вас никто не узнает, Георгий Аполлонович. Вы сейчас больше смахиваете на обыкновенного приват–доцента, нежели на народного вождя, — плюнул в душу Гапона, критически обозрев безбородое бледное лицо со скошенным набок носом и короткой стрижкой. Окинув взором крахмальный воротничок, и безобразно вылезшие из рукавов мятого пиджака манжеты, подумал, что и на приват–доцента этот помятый субъект явно не тянет, а весьма схож со шпиком из охранки…
«Как я ненавижу этих интеллигентов… То ли дело — простые рабочие», — узрев в писательских глазах искры иронии, поправил манжеты Гапон, и сморщил в плаксивой гримасе лицо, вспомнив убитого богатыря Филиппова с его окладистой бородой и трубным басом.
Шумное заседание интеллигенции вёл профессор Лесгафт — так представил председателя Максим Горький.
Крича каждый своё, и не слушая глупые мнения других, собравшиеся господа обсуждали виденное и пережитое днём.
— Представляете, — горячился старичок в пенсне и в бородке клинышком. — Десять тысяч раненных и пять тысяч убитых… И это в столице России. На моих глазах.., — кряхтя, взобрался на кафедру, — …Ша! — выставил ладонь в сторону Лесгафта, попытавшегося довести до сведения старикашки, что намечен другой докладчик. — Я сам видел, пока ехал сюда на конке, — задребезжал он с трибуны, уцепив себя за бородку, — как за нами гналась целая сотня казаков, во всю глотку вопя: «Бейте студента!»
— Это вас приняли за студента и хотели избить? — поинтересовался недовольный ущемлением своих председательских прав Лесгафт.
— Нет! Студент — он и в Африке студент… В очках и шляпе, — занудливо стал объяснять старичок.
— Ну да, — насмешливо покивал головой ведущий собрание. — С кольцом в носу и в набедренной повязке…
— Один из казаков, — не слушая язвительные замечания, продолжил старикан, — видно через окно его заметил и с подвывом заорал: «Лупи в хвост и в гриву очкарика-а!», — жестикулировал пожилой докладчик. — Всё на моих глазах было и нечего усмехаться, — набросился на председателя. — Остановив вагон, дикари вытащили студента и стали избивать нагайками и ногами…
— Они от самой Африки за ним гнались? — попытался уточнить Лесгафт.
— Нет. От Зимнего, — огрызнулся старичок и, сделав жалостливое лицо, продолжил: — Бедный студент только и мог стонать: «Мама, мама-а…»
Услышав такие ужасы, сидевший неподалёку Гапон привычно уже пустил слезу, представив себя на месте несчастного юноши, а Лесгафт, наоборот, разозлился от этого душещипательного эпизода.
— А вот мне рассказали, что на Большом проспекте Петербургской стороны эскадрон кавалерии лейб–гвардии Конного полка остановил конку на том основании, что сидевший в империале студент назвал их опричниками.
— Кем они и являются, — сумел вставить старичок, покидая трибуну.
Лесгафт неожиданно увлёкся повествованием: «Наверное, от дедушки заразился», усмехнувшись, подумал он.
— Офицер в грубой форме… шпак, очкарик… Потребовал выйти из транспортного средства, и пока бедняга сходил, целый взвод во главе с офицером стали рубить его шашками…
У Гапона опять намокли глаза от столь трагической картины, а присевший рядом старичок прошептал: «И он закричал: мама, мама-а», — громко высморкавшись в платок, дедуля подозрительно покосился на попа–расстри–гу — не с охранки ли чучело?
— … В эту минуту, — взобрался на кафедру Лесгафт, чтоб вещать на весь зал, — приблизился отряд городовых, и стал рубить заступившегося за студента рабочего. И его тоже забили до смерти. Одна из пассажирок конки видела даже два гроба, доставленных к вагону, куда положили останки убитых, — покинув кафедру, подошёл к старичку с Гапоном. — Это я к тому, что бывают и непроверенные слухи, — сказал клинобородому дедушке. — А вы, как сообщил мне Алексей Максимович — посланец отца Гапона? Прошу вас за трибуну.
Взойдя на кафедру, Гапон оглядел зал и поздоровался, как в «Собрании» с рабочими:
— Здравствуйте. Многие лета вам.
И под негромкие смешки продолжил:
— Теперь время не для речей, а для действия. Рабочие доказали, что умеют умирать, но, к сожалению, они безоружны. А с голыми руками трудно бороться против винтовок, шашек и револьверов. Теперь ваша очередь помочь им. Накануне девятого января нам обещали триста револьверов и бомбы. Но обманули. А из магазина Чижова мы достали только двадцать револьверов, — прикусил язык. — Нужно оружие! — под аплодисменты сошёл с кафедры.
«Артистические переливы тембра, поднятые вверх руки и закатанные к небесам глаза… Всё это рассчитано на рабочих. На их низкий умственный уровень… А здесь жесты благословения и переливы голоса роли не играют. Здесь важен смысл. То–то Лесгафт дипломатично посмеялся над старичком в пенсне», — улыбнулся Рутенберг — умный и хладнокровный человек, показавший пешке, что она пешкой и осталась, не сумев пробиться в ферзи.