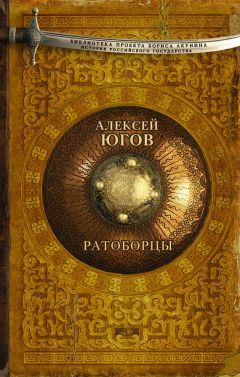Лучшие мужи, доблестные воеводы князя Даниила предводили тем конным ударом: и Шелв, и Держикрай Домомерич, и Всеволод Олександрович, и Василий Глебович, и Мстислав.
И не устояли венгры – и побежали, и потекли!
А навстречу к своим отчаянно пробивался сквозь мятущуюся толпу врагов, точно пловец, захлестываемый накатом моря, Андрей-дворский с теми, кто уцелел.
И тысяцкий города Ярослава ударил – Олекса Орешек – через внезапно распахнутые ворота, – захватил и перебил многих, что стояли на осадном городе и на турах, и посек тараны и камнеметы.
Но отринули его сызнова, ибо свежий венгерский полк пришел на подмогу, едва только увидал Фильний клубы дыма и пламя, поднявшееся над осадным сооруженьем.
– Бешусь! – злобно проговорил вполголоса Фильний и снова одним мановеньем руки вывел из-за леса пять новых и многолюдных конных полков.
– Убивать, кто бежит! – сурово напутствовал он.
Внимая гулу и стону битвы, Даниил безошибочным слухом и чутьем полководца узнал тот миг, когда заколебались весы сраженья. Он ринул еще один полк.
Всадник за всадником, гонец за гонцом мчались от князя и ко князю.
На взмыленном, шатающемся коне прискакал нарочный с левого крыла.
– От Василия Глебовича, княже! – соскочив наземь, задыхаясь, проговорил он. – Сеча люта идет! Ломят! Просит подмоги!..
Даниил сдвинул брови.
– Не будет подмоги. Ать стоит! – сказал он.
И снова пал нарочный на коня, вонзил шпоры и поскакал.
У Даниила оставался в тот час один только избранный полк, которого недаром страшились в битвах. Да оставались еще у него две сотни карпатских горцев, что привел за собою старик Дедива.
– Яков Маркович, – сказал Даниил воеводе, – станешь тут, в мое место!
И, послушный легкому касанью ноги, белый конь Даниила пошел широким наметом. Князь мчался на левое крыло своих войск. Но уже сильно стали подаваться и Шелв, и Мстислав, и Всеволод Олександрович – на правом.
Слышался грозный вой и улюлюканье венгров. Русские отступали к Сану.
Тяжело израненный воин попался навстречу князю. Правой, уцелевшей рукой он придерживал, стиснув зубы, обмотанное кровавой тряпицей, порубанное левое плечо.
– Княже, не погубися! – крикнул он Даниилу.
Даниил остановил отступавших. К нему подскакал воевода Всеволод.
– Княже! – проговорил он. – Изнемогаем! Говорил: не надо было переходить Сан. Мосты пораскиданы! А ведь тяжко нам. Угры-то лесом заложились и дебрью!
– Страшлива душа у тебя! – отвечал князь. – Ныне же поезжай в свои колымаги! На твое место другого ставлю.
Воевода пошатнулся в седле.
– Княже! – хрипло проговорил он. – Помилуй! Не осрами на старости лет. Вели мне честно здеся голову свою сложить!
И Даниил оставил его.
– Воины! – крикнул он голосом, преодолевшим гром и рев битвы. – Братья! Пошто смущаетеся? Война без падших не бывает! Знали: на мужей ратных и сильных идем, а не против жен слабых! Ежели воин убит на рати, то какое в том чудо? Иные и в постелях умирают, без славы! А я – с вами!
И откликнулись воины:
– Ты – наш князь! Ты – наш Роман!
И сызнова ринулись на врагов. А князь промчался вдоль всего войска – от края до края, и всюду, где проносился он, посвечивая золотым шлемом, долго стоял неумолкаемый радостный клич.
И венгерскому полководцу пришлось двинуть в битву свои последние, засадные полки.
– Пора! – сказал князь и повел на мадьяр свой отборный, бурями всех сражений от малейшей мякины провеянный полк.
У многих из простых ратников горели на мошной груди золотые гривны – цепи, жалованные Даниилом за подвиги, на виду всего войска, на полях битв.
На сей раз рядом с некоторыми из всадников шли горцы – гуцулы и руснаки, приведенные старым Дедивой. А и трудно было сказать – шли эти рослые люди беглым, просторным шагом или бежали? Только не отставали они от коней, чуть придерживаясь концами пальцев седла.
«И сотворися тогда сеча велика над рымляны!»
В тот же час ударили на врагов с другой стороны Яков Маркович воевода, да воевода Шелв, да горожане ударили снова из города и пробилися до Андрея, а оттуда опять ударили и налегли на венгров – погнали их, сбили их в мяч!
– Батран! Не робей! – кричал в бешенстве Фильний. – Стойте крепко! Русь скора на битву, а не выдержит долгой сечи!
Тщетно! Отступающие в беспорядке мадьярские полчища уже захлестывали и самый холм, где стоял Фильний.
И вот уже дорубился было Даниил королевской хоругви! Уже изломил он копье в некоем великане мадьярине и теперь прокладал себе дорогу мечом. Разит князь Данило своей тяжкой десницей. Крушат все вокруг не отступающие ни на шаг от князя горцы.
Вот-вот уже знамя! Уже слышно, как шелестит и плещет голубой шелк.
Но тогда кликнул по-своему: «На помощь!» полководец венгерский, и зазвенел горн, и сомкнулись отборнейшие телохранители, сберегатели королевской хоругви, и, вооружася отчаяньем, двинулись против Даниила. А на призыв той трубы уже ломил полк, собранный наспех каким-то венгерским рыцарем.
Один за другим рухнули наземь яростно оборонявшие князя горцы. И вот уже кинулось на него сразу несколько огромных мадьяр, и свалили с коня, и схватили.
Вопль ужаса и ярости исторгся у русских воинов, не успевших еще дорубиться холма.
Но внезапно разорвал Даниил застежку плаща своего, за который схватилось множество вражьих рук, отпрянул, подобно барсу, поднял валявшийся близ него горский топор и с размаху грянул по голове первого подвернувшегося.
Страшен тогда явился лик Даниила! Попятились мадьяры и расступились. А князь пробил дорогу к своим – уже ревели грозно у подножья холма – и сказал им ратное слово, слово, за которое кладут душу, и ринул их за собой к знамени.
И не стерпел венгерский вождь именитый – «тот древле прегордый угрин Филя».
– Лоу!.. Лоу!.. (Лошадь!.. Лошадь!..) – закричал барон вне себя, хотя и сидел уж на лошади.
И доселе не знают, требовал он запасного, поводного коня или же помутился в тот миг его рассудок от ужаса.
Вонзил он шпоры в золотистого благородного скакуна, ударил плетью и поскакал.
А и недалеко ушел!
Даниил же дорвался до королевской хоругви, привстал в стременах и яростно разодрал на полы тяжелое шелковое полотнище – вплоть до золотой короны Стефана.
…Привели Фильния.
Сумрачно, угрюмо выступал венгерский полководец. Подойдя к Даниилу, сидевшему на коне, он все еще властным и высокомерным движеньем отстранил от себя двоих русских ратников, что придерживали его.
– Герцог Даниэль! – медленно проговорил он. – Марс непостоянен. Я – твой пленник!
Даниил дышал гневно и тяжело.
– Ты хочешь пленник именоваться! – сурово ответил он. – Но у меня с вами войны не было! Ты пленник хочешь именоваться! – возвышая голос, продолжал он. – А пошто села наши пожег и жителя и земледельца побил? Отмолви!
Фильний молчал.
– Яко пленник хочешь быти? – повторил грозный свой допрос Даниил. – А пошто воеводу моего Михаилу убил, когда в плен его ранена взял? Ты видел: на нем трои цепи были золотые, – то я на него своей рукой возложил: за его ратоборство и доблесть. И ты содрать их посмел!.. А ныне что мне отмолвишь про то?
Барон молчал.
– И нечего тобе отмолвити! – заключил князь. – Нет! Не пленником тебя, а тело твое псам на расхытанье!
Фильния увели…
Угрюмыми толпами вели пленных венгров. Гнали табуны захваченных трепетнокровных коней. Сносили и складывали в кучи оружие и доспехи. Пылал и клубился черным дымом осадный город вкруг Ярослава. Далеко разносился звон колоколов. И до самой полуночи не умолкал над побоищем переклич: подымали раненых, отыскивали своих убитых, ибо многие тогда явили великое мужество и не побежали брат от брата, но стали твердо, прияв победный конец, оставя по себе память и последнему веку!
В Дороговске, на отлогой и обширной поляне за дубовым теремом князя, пировала дружина и наихрабрейшие ополченцы.
Торжествовали победу. Здравили князя.
Лучшие вина в замшелых бочках, и мед, и узвар из всевозможных плодов, и янтарное сусло в корчагах видны были там и сям под деревьями.
Упившихся относили бережно – на попонах – в прохладу, где булькал студеный гремучий ручей. Но и эти еще усиливались подняться и кликнуть, как только достигало их слуха, что князь опять сошел в сад с балкона и проходит между столами, а вслед ему гремит и несется:
– Здрав, здрав буди, княже, во веки веков!..
– Куме, а и любит нас Данило Романович! – говорил один седоусый волынский ополченец другому, столь же изнемогшему над грудой вареников с вишнею, залитых сметаною, и комдумцов с мясом. – Ты погляди: на столе-то – на сто лет!
– А и мы князя любим! – отвечал другой. – И ведь что он есть за человек! И рука-то у него смеется, и нога смеется! И всему народу радостен!.. Куме, напьемся! – растроганно и умиленно заключил он, стряхивая слезу, и поднялся на нетвердых ногах с чарой в руке, обнимая и обливая кума.