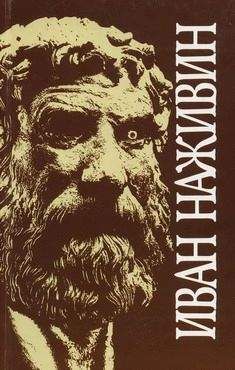Глаза старой Аспазии широко раскрылись. Она задыхалась.
— Как? Моего Периклеса приговорили к смертной казни?!. За такую победу?!. Но… но…
И она повалилась без чувств. Это было последнее, что ей еще оставалось в жизни. Теперь все, что у нее было, это собачка, которая ее очень любила и с которой она, сидя у жаровни с тихо тлеющими углями — она все зябла — она тихонько разговаривала о чем-то целыми часами и нежно гладила ее шелковистую шерсть. И собачка смотрела ей в лицо ласковыми, грустными глазами.
Впрочем, демократия скоро раскаялась в своем поспешном жесте с навархами и казнила тех, которые ее на эту казнь подбили, так что справедливость была восстановлена и бессмертные боги были, вероятно, удовлетворены.
Тяжело ударили Аргенузы и по семье каменотеса Андрогина, друга Сократа: его сын, Андроклес, был привезен домой без ног, которые он потерял в битве, попав в горячей схватке между двух столкнувшихся триер…
Несмотря на все усилия людей, хорошее, прочное, спокойное, верное, на что они упорно надеялись, не приходило никак. Совсем наоборот: пройдя на войне великолепную школу жестокости, обмана, грабежа, вероломства, насильничества, эти люди возвращались домой самыми отменными ворами и убийцами. Положение демократии становилось настолько непрочным, что вожаки ее потребовали от всех граждан клятвы в верности демократии: «Если кто-нибудь уничтожит демократию в Афинах — гласил закон 409 года — или же займет какую-либо должность после ниспровержения демократии, такой человек будет считаться врагом афинян и может быть убит безнаказанно, имущество его переходит в собственность государства за исключением десятой доли, которая отходит Афине Палладе. Убийцы такого человека считаются чистыми и незапятнанными и не отвечают перед законом. Все афиняне должны принести клятву убить такого человека»[32].
После всяких реформ, ререформ и реререформ в делах царила невероятная путаница, обилие законов, древних и потерявших всякий смысл, и новых, которых никто еще путем не знал, сбивало с толку всех. Суд целиком зависел от капризов демоса, а демос от всякого бесстыжего прохвоста. Кучка заядлых политиканов и сикофантов вертела всеми и всем, ссылала, конфисковала, брала взятки, запугивала, казнила. Еврипид и Фарсагор — он все брезгливо морщился — уехали ко двору Архелая Македонского. Софокл и Аристофан остались, но жили с оглядкой. Молодой Платон, почти не покидавший Сократа, отметил себе, что среди народа афинского осталось «только число малое честных последователей мудрости». Потом он говорил, что немногие честные люди эти были подобны людям, попавшим среди диких зверей: человек не хочет быть с ними, но у него нет сил восстать против них и, прежде чем он успеет сделать что-нибудь доброе для общества или своих друзей, его задавят. «И когда эти лучшие люди, — говорил Платон, — поразмыслят об этом, они замолкают и уходят в свои личные дела, как во время бури человек прячется за стену». Он, по совету Сократа, бросил в огонь свою пьесу, которая была уже принята к постановке в театре Диониса, а теперь все более и более задумывался над тем, не уйти ли ему от общественной деятельности совсем, хотя ему как состоятельному и знатному молодому человеку блестящая карьера на этом поприще была обеспечена — до тех пор, понятно, пока демосу не вздумается снять с него голову или, по меньшей мере, выбросить за дверь… Раздумывая над всеми делами этими в тиши своего острова, Дорион раз сказал своему новому другу Диагорасу, Атеисту:
— Мне все более и более начинает казаться, что вопрос не в том, как лучше перестроить государство, а в том, чтобы уничтожить его власть над людьми совсем…
И Атеист молча, одобрительно кивнул головой.
Путаница, тягота, сознание бездорожья нарастало. Афинам очень хотелось призвать опять Алкивиада, но было страшно: сожрет. Аристофан в «Лягушках» советовал демократии перестать ставить во главу государственных дел всяких мошенников и, отказавшись от своих смешных претензий, принять в свою среду не только рабов, победителей при Аргенузах, но всех, кто честно сражался в рядах афинян.
— Конечно, Аристофан хороший писатель, — авторитетно говорил залившийся салом Феник своим приятелям. — Но он совсем не государственно мыслящий человек, и все эти его советы, конечно, м-м-м…
И, вытянув губы, он делал пренебрежительное лицо.
Его одобряли: богатый, солидный человек и зря, конечно, говорить такой уж не будет. И кстати демократия тут же постановила, что миндальничать больше нечего и что всем взятым в плен гребцам неприятельского флота надо отрубать руки. Один из навархов, Филоклес, поставил точку над i: предал смерти всех моряков, захваченных им на двух спартанских триерах. Сопротивление спартанцев после этого жеста великого наварха удесятерилось, и они предпочитали гибнуть в бою, чем сдаваться афинянам. Конечно, в долгу перед противниками они не оставались…
Приятели Лизандра добились, чтобы Спарта и ее союзники, хотя и незаконно, снова поставили его главковерхом своих морских сил, хотя его властолюбия очень боялся Павзаний, второй, рядом с Агием, царь спартанский. Чтобы не нарушить конституции, требовавшей, чтобы главнокомандующий больше года на своем посту не оставался, они нарушили ее, дав Лизандру для вида подчиненное место эпистолеуса, но с отправлением обязанностей главковерха. И он немедленно взялся терзать Афины где только мог. Со ста пятьюдесятью судами он пронесся мимо Пирея на север к Геллеспонту. За ним бросились сто восемьдесят афинских кораблей, последняя ставка Афин: аргенусская победа стоила им очень дорого. Но свобода Проливов была для них вопросом жизни. Афинский флот остановился у устья речки Эгоспотамос. Четыре дня бороздили триеры море в поисках неприятеля. Алкивиад с берега следил за ними — вместе с Антиклом, который, полный тревоги, приехал к другу на своем «Паралосе».
— Судов у Афин много больше, — говорил Антикл, — но у Спарты в руках огромный козырь: афинянами опять, как при Аргенузах, командует несколько навархов, а спартанцами один Лизандр. Беда неминуема. Ты съездил бы к навархам поговорить. Пусть они прежде всего отойдут в соседний городок Сестос, где и продовольствоваться будет легче, и опасность внезапного нападения много меньше…
— Хорошо, я съезжу… — отвечал тоже потускневший Алкивиад. — А ты, в случае чего, как поведешь теперь себя? — с улыбкой спросил он.
— Воистину, не знаю, Алкивиад… — вздохнул тот. — С одной стороны жалко пропадать вместе с дураками по пустякам, а с другой — как же оставить своих в беде? Теперь встряска будет жестокая. Но как только вспомню дядюшку Феника и его налитое салом брюхо, и подумаю, что это вот Афины и есть, руки опускаются. Я буду тут поблизости… Может, и ты как в дело ввяжешься? С тобой я пошел бы в огонь и в воду, а с этими разными дядюшками, может, посчитался бы я потом…
Алкивиад тотчас же собрался на корабли. Тимандра была бледна и тревожна, но Алкивиад только смеялся: ах, оставь эти свои женские страхи!.. И она, слушая это его легкое, милое для нее, как музыка, пришепетывание, глядя в эти смелые, красивые глаза, не успокаивалась, а просто на минуту забывала свои опасения… Он, вполне разделяя советы Антикла, — а уж он ли не знал берега!.. — изложил их перед собранием строгих навархов, но они оскорбленно отклонили их: в конце концов не ему ведь, а им доверен флот, командуют тут только они…
— Мы просим тебя удалиться…
Когда Алкивиад передал все Антиклу, тот только пожал плечами.
— Я буду в соседней бухте… — хмуро сказал он. — Если тебе с Тимандрой понадобится бежать, помни, что лучше «Паралоса» ходока в обоих флотах нет. Теперь вопрос в том, афиняне ли атакуют Лампсак, где укрепился Лизандр, или тот воспользуется спорами ваших навархов и их удивительной беспечностью и треснет по афинскому флоту тут, но, по-моему, дело выглядит скверно. Шесть навархов на один флот, а?!
Решения ждать пришлось недолго: когда афиняне менее всего ожидали его, Лизандр бурей ударил на них всеми силами. Большинство судовых команд афинского флота были на суше в поисках продовольствия. Только один Конон, командовавший двенадцатью триерами, был осторожнее: его моряки были на судах. С боем пошел он наутек. Спартанцы бросились частью за ним, а частью забирали обессиленные суда афинян. И вдруг какое-то неведомое судно ударило спартанцам во фланг. Не веря своим глазам, — они думали, что за ним, в пустынной бухточке, скрываются в засаде другие триеры, — спартанцы смешались, а потом три триеры отделились от преследователей Конона и вступили в бой с дерзким. Это был «Паралос». На мостике, сжав в бешенстве кулаки, стоял Антикл-Бикт и с отвращением и презрением глядел на берег, где спартанцы почти без боя забирали суда афинян.
«Паралос» соколом налетел на среднюю триеру, и Алкивиад с берега видел, как с сухим треском накренилась пораженная насмерть триера, как на мачте «Паралоса» вспыхнуло вдруг пурпурное знамя — Алкивиад понял, что этим Бикт хочет обмануть спартанцев, давая понять, что на судне командует сам страшный для них Алкивиад, — и как два остальных спартанских корабля враз ударили на смельчаков, и как Конон повернул свои корабли, чтобы выручить «Паралоса». Из-за расстояния Алкивиад не видал, как одним из первых упал за борт Антикл: неприятельская стрела угодила ему прямо в глаз. Еще несколько мгновений и «Паралос» был бы взят, но Конон сильным ударом опрокинул спартанцев и отобрал у них «Паралос». А к устью Эгоспотамоса и смотреть было жутко: спартанцы взяли без боя сто шестьдесят афинских триер и три тысячи пленников. Все они были доставлены в стан ликующих победителей и, в ответ на все жестокости афинян, казнены. Все. Сразу.