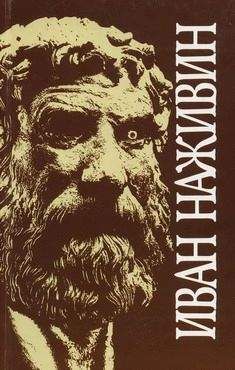«Паралос» соколом налетел на среднюю триеру, и Алкивиад с берега видел, как с сухим треском накренилась пораженная насмерть триера, как на мачте «Паралоса» вспыхнуло вдруг пурпурное знамя — Алкивиад понял, что этим Бикт хочет обмануть спартанцев, давая понять, что на судне командует сам страшный для них Алкивиад, — и как два остальных спартанских корабля враз ударили на смельчаков, и как Конон повернул свои корабли, чтобы выручить «Паралоса». Из-за расстояния Алкивиад не видал, как одним из первых упал за борт Антикл: неприятельская стрела угодила ему прямо в глаз. Еще несколько мгновений и «Паралос» был бы взят, но Конон сильным ударом опрокинул спартанцев и отобрал у них «Паралос». А к устью Эгоспотамоса и смотреть было жутко: спартанцы взяли без боя сто шестьдесят афинских триер и три тысячи пленников. Все они были доставлены в стан ликующих победителей и, в ответ на все жестокости афинян, казнены. Все. Сразу.
И этим страшным раскатом грома из ясного неба война персидского золота и спартанской воинской доблести против золота и жажды золота еще и еще со стороны свободнейшей из республик была кончена. Осталось подвести итоги. За этим дело не стало.
Конон, понимая, что с Афинами кончено, поехал прямо на Крит, тихо умиравший среди своих древних развалин в стороне от всего. С пути он отправил в Пирей «Паралос» со страшной вестью. «Паралос» прибыл в гавань уже затемно, и Афины не спали всю ночь. Они понимали, что теперь их самих ждет та страшная судьба, которую они столько раз обрушивали на других: перережут все мужское население, способное носить оружие, а женщин и детей продадут в рабство. Уже одно это заставляло их сопротивляться до последней капли крови. Во главе всеобщего ополчения стал Евкрат, брат незадачливого Никия, погибшего в Сиракузах.
Павзаний, царь спартанский, поднял армии всех союзников, за исключением Аргоса. Агий двинулся на Афины из Декелеи долиной Кефиссоса, а с моря шел Лизандр на ста пятидесяти судах, гоня перед собой переполненные корабли с перепуганными, голодными афинскими колонистами, которые были разбросаны по всем островам и для которых теперь у Афин не было прежде всего хлеба. Вокруг Афин замкнулось железное кольцо. Страшный голод косил обезумевшее население. Но Афины надеялись на чудо и в храмах неустанно приносили жертвы богам, а в особенности той Афине Промахос, которая должна была бы сражаться за свой город в первых рядах…
Но — голод нарастал. Нарастал ужас. Собачка Аспазии сдохла от голода, и старуха с седыми волосами, с трясущейся головой сидела у потухшего огня и все что-то шептала, шептала, шептала. Умерла Гиппарета. Умер Андрогин. Афины послали Ферамена в Спарту для переговоров: если им оставят их земли и стены, они присоединятся к пелопоннесскому союзу. Эфоры не захотели даже и обсуждать это предложение. Тех, которые советовали народу сдачу без условий, афиняне бросали в тюрьмы. Клеофон, которому грозила гибель и демократии, и своя собственная, кричал на Пниксе, что он своими руками заколет всякого, кто будет выступать с подобными предложениями. Но холодные головы работали, и вскоре послом в Спарту отправился Тераменес. Его продержали там три месяца. Голод и смерть царили в когда-то бойком и веселом городе. Граждане его заключили было что-то вроде священного единения, но оно разваливалось. Усиливались споры. Олигархи подняли головы. Клеофон попробовал было бороться с ними, изменниками, но был убит.
Тераменес привез условия еще более жестокие: разоружения Пирея, срытие стен, уступка всех городов, сдача всех триер, кроме тех двенадцати, которые увел Конон и прочее. На конференции союзников Спарты против этих условий резко возражали фивяне, коринфяне и многие другие, которые требовали просто уничтожения всего афинского населения — вот до чего насолила всем демократия! Этим требованиям воспротивилась прежде всего Спарта: нельзя поступать так с Афинами, которые во время персидских войн столько сделали для Эллады, пусть Афины платят дань, но управляются пусть так, как сами того хотят. Военное же господство переходит, понятно, к Спарте, и Афины дают ей воинов…
Обезумевшее от голода и ужаса население Афин было радо и этим условиям — хотя некоторая оппозиция и была — и в 16 день месяца Мунихия Лизандр вошел со своими триерами в гавань Пирея, изгнанники Афин вернулись домой и с огромным энтузиазмом, под музыку веселых девиц-флейтисток, все восторженно взялись за ломку стен. И было софистами, которые подыгрывали не хуже флейтисток, объявлено во всеобщее сведение, что отныне Эллада становится свободною — как было это объявлено так недавно после поражения Афин в гавани Сиракуз. Правда, тогда с этой самой свободой ничего что-то не вышло, но теперь можно было надеяться, что выйдет уже непременно…
Старая, скорбная, высохшая Аспазия со слезами на недоумевающих глазах издали смотрела на разрушение стен. Ей было непонятно, как это из всех забот Периклеса вдруг вышла эта страшная катастрофа, смерть сына, гибель Афин. Стоявший рядом с ней Сократ — он тоже исхудал и постарел за последнее время — задумчиво играл пальцами в седой бороде: жизнь оказывалась куда сложнее, чем он думал над говорливым Илиссосом среди цветущих олеандров и наивных молодых людей, которых он своим словом чаровал…
XXXVII. АФРОДИТА МИЛОССКАЯ
Грустно замкнутая в себя эти последние годы, Дрозис вдруг приняла, видимо, какое-то большое решение: она перестала есть. Дорион встревожился: тогда люди, не желавшие больше жить, часто прибегали к этому способу ухода от отягчающих землю маленьких, глупых, беспокойных софистиков. Она лежала в саду, на каменной скамье, в тени, около самой Афродиты, смотрела перед собой, и увядшие уста ее были крепко сжаты. Дорион пробовал не раз заговаривать с ней, но она ласково отделывалась ничего не значащими фразами и опять замыкалась в себе и смотрела в пустоту огромными, неподвижными глазами, в которых, как и во всем ее облике, была теперь какая-то глубокая торжественность. Не говорила она не столько потому, что не хотела, сколько потому, что не могла. Она почувствовала в жизни такой огромный обман, что была раздавлена им. Она выпорхнула из небытия на эти солнечные острова нарядной, прелестной бабочкой, вся радость, но скоро запуталась в липкой паутине непонятного, и вот все кончается. Она не могла забыть гибели Фидиаса и своего последнего свидания с ним. Что и она погубила его, это она чувствовала, но она никак не могла принять, что она тут виновата : разве она знала, что все так кончится? Она любила его, но по-своему, своенравно и хотела каждую минуту чувствовать, что он любит ее, только ее. Она знала, что это так и есть, но ей непременно было нужно видеть, чувствовать это на каждом шагу. И она была с ним жестока из любви более, чем она того хотела…
А теперь вот он мстил ей из-за могилы этой своей статуей, которая без слов говорила ей, что все прошло, что прежней Дрозис нет, — при этом нет она холодела от ужаса — что перед сияющей в лазури Афродитой добровольно умирает только жалкая, никому не нужная старуха. Зачем теперь жить, тысячи раз спрашивала она себя долгими, мучительными ночами и — ответа не было. И страстная душа ее сразу подвела итог: значит, надо уходить. Но что будет там ? Она содрогалась от незнания, но твердо стояла на своем решении, ибо другого просто-напросто не было.
А над нею сияла в победной красоте своей Афродита, ставшая от этого своего изуродования артистом в минуты огневой страсти точно еще прекраснее. И солнечной красотой сияла лазурная земля. Жизнь была для других праздником, в котором ей, Дрозис, уже не было места. Она худела, бледнела, опускалась от слабости в какое-то холодное безразличие, снова на некоторое время всплывала, строго смотрела перед собой своими изумительными глазами и молчала, потому что для того, что в ней происходило, не было слов.
Дорион сидел на солнышке и смотрел в озабоченную возню насекомых в траве и слушал немолчное пение цикад. И думал он, что спеющие оливки в садах похожи теперь на рои пчел, которые осыпали серебристые деревья. Думал он это потому, чтобы не думать о той кровавой жертве, которая приносилась рядом с ним богам неведомым, но жестоким, о Дрозис. Таких женщин они не должны были бы или создавать совсем, или, создав, оставить им до пресыщения, навеки их красоту, их молодость, их смех. Да, Афродита мраморная будет жить вечно молодой и прекрасной, а та, с которой она создана, Афродита живая, погибает в муке — неизвестно за что.
Из-за каменного забора кто-то сделал ему призывный знак рукой. Это был Диагорас, с которым он в последнее время подружился, высокий, худой человек с глазами, которые он непременно хотел сделать очень сердитыми. Он был черен, как жук, и злые языки болтали, что причиной этому сильное влияние на его мать персидской войны. За свои дерзкие речи он подвергся изгнанию из Афин вскоре после страшного «усмирения» этого острова в 416-м, но уже раньше Аристофан в «Облаках» указывал на него, как на великого нечестивца. И здесь его звали все Атеистом и смотрели на него недоверчивыми, злыми глазами. Теперь он усердно работал над своей книгой, упорно, со злобой, не желая ее кончать, собирая для нее все новые мысли, оттачивая их, отравляя ядом, чтобы они кусали, как змеи… И Дорион становился в последнее время как-то сердитее: он не находил другого средства отгородиться от беспокойных, ненужных, всегда вредящих людей.