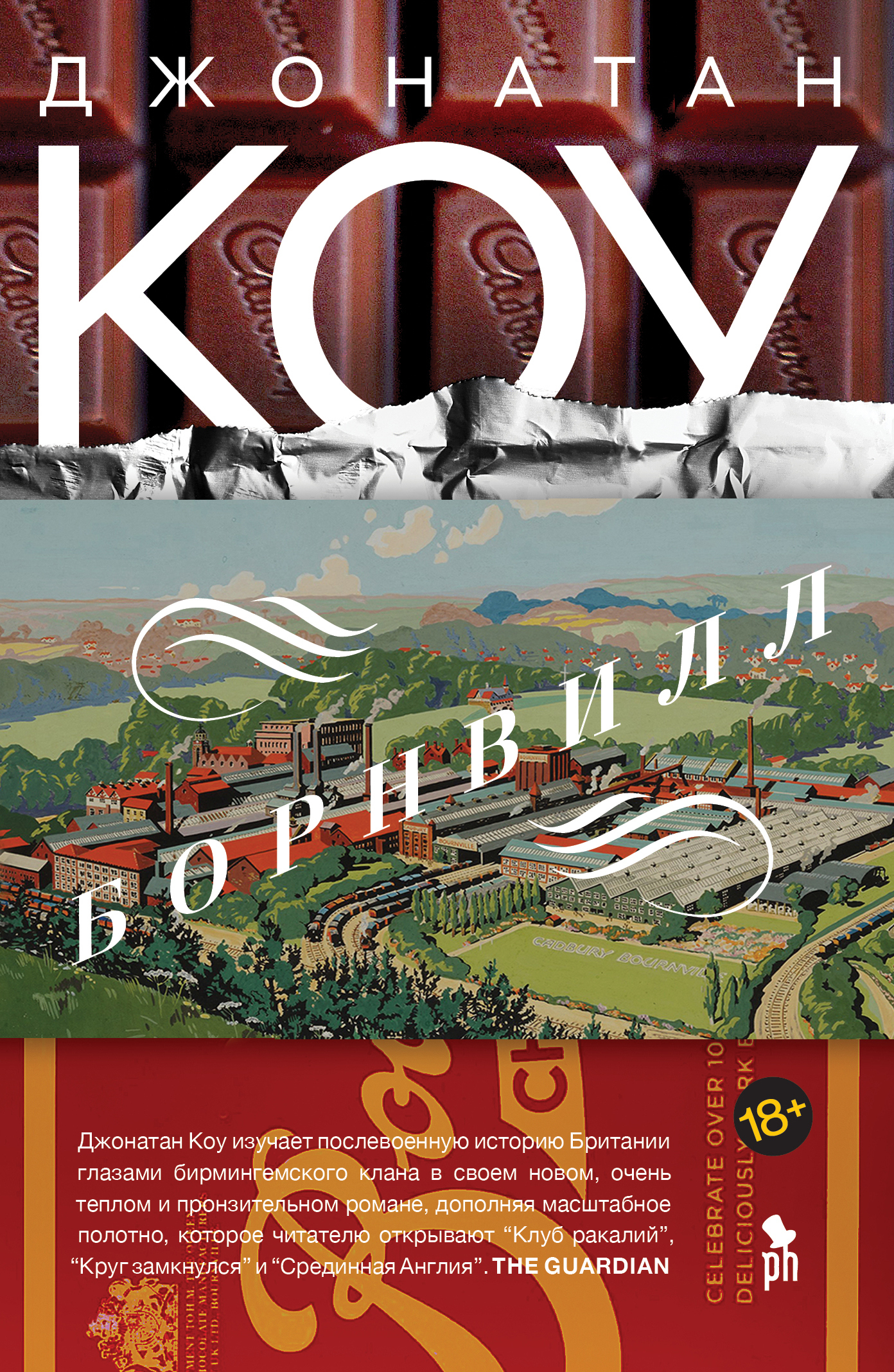шоколадного производства. Некоторые страны – громче всех выступали Бельгия с Францией – настаивали на строгом определении понятия “шоколад”, имея в виду, что любой продукт, предъявляемый на рынке как шоколад, должен содержать сто процентов какао, не разбавленного никакими иными растительными жирами. В противном случае, по мнению этих стран, существовало бы какое-то другое наименование – “вегелад”, например. Между тем страны с менее пуристским подходом – в том числе Дания и Великобритания, обе состоявшие в Европейском экономическом сообществе с 1973 года, – настойчиво возражали и отказывались менять свои методы производства, которым, по их заявлениям, они следовали десятилетиями. Со времен Второй мировой войны технологи “Кэдбери” разбавляли какао в своем шоколаде небольшим количеством растительного жира (обыкновенно не более пяти процентов), и британской публике он полюбился именно таким. Им обидно было, что французы, бельгийцы и прочие пуристы пренебрегали их шоколадом, называя его “сальным” и заявляя, что он удовлетворяет только детским вкусам, никак не взрослым.
Но единый рынок требовал введения общих стандартов. В 1973 году ЕЭС предприняло первую попытку установить эти стандарты для шоколада – возник черновик “Шоколадной директивы”, ее (на мудреном запутанном языке европейского законотворчества) классифицировали как “вертикальную”, поскольку задача ее состояла в том, чтобы снять все вопросы, касающиеся определенного продукта питания. Попытка оказалась безуспешной и вскоре зашла в тупик. “Кэдбери” (и другие производители так называемого промышленного шоколада – скандинавские страны) менять рецептуру отказались, в связи с чем Бельгия, Франция, Италия, Люксембург, Германия и Нидерланды наложили каждая свои отдельные ограничения на ввоз к себе шоколада. В последовавшие два десятилетия “Кэдбери”, “Терри”, “Раунтри” и другие оказались отлучены от этих прибыльных рынков. Вот и говори после этого о свободном движении товаров.
К началу 1990-х Мартин, теперь уже значительная фигура в отделе экспорта, начал считать создавшееся положение невыносимым. То же казалось и его начальству. Они предложили ему засесть в Брюсселе и взяться за серьезное лоббирование. Он снял служебную квартиру на рю Бейяр, неподалеку от Европейского парламента и, что важнее, неподалеку от Пляс дю Люксамбур, оживленной площади, которую люди между собой именовали Пляс Люкс, со множеством баров и кафе, где журналисты, лоббисты и члены Европарламента любили собираться, знакомиться, договариваться и обмениваться ценными сплетнями.
Вдохновляющее тогда было время в Брюсселе – во всяком случае, по мнению Мартина. Разные члены ЕЭС рвались ко все более тесному союзу. Два суматошных года приведут к подписанию Маастрихтского договора, к началу единого рынка и к созданию Европейской экономической зоны. На горизонте замаячило принятие единой валюты. И хотя Мартин не был уверен, что этот последний шаг целиком в интересах Британии, он оставался по натуре своей упорным еврофилом и приветствовал почти все эти новшества. Враждебность, выказанная любимому для Британии – и для самого Мартина – сорту шоколада, Мартину не мешала, это всего лишь помеха, некая преграда, каких запросто ожидаешь на пути к гармонизации, и Мартин верил, что учтивое отстаивание и терпеливые переговоры приведут к некоему решению. Но вскоре он осознал, что с большинством британских обозревателей, собиравшихся в барах на Пляс Люкс, и в особенности с журналистами он во мнениях не совпадает. Тут большинство считало, что все происходит слишком быстро, от Британии хотят отказа от слишком многих ее коренных свобод, а Евросоюз – не что иное, как вымогательство, состряпанное бюрократами ради власти, но хуже всего другое: это сговор французов с немцами с целью захвата Европы; и, наконец, разумеется (вечный убийственный довод британского контингента), что Мэгги была права и трусы в ее же партии выдавили ее из-за этого. Таковы были аргументы, какие при Мартине вновь и вновь отрабатывали под “Шиме Блё” над плошками с moules frites [77].
Мартин вскоре привык проводить по две-три ночи в неделю в брюссельской квартире, где вечерами составлял нескончаемые описания химического состава британского шоколада и юридических последствий отношения к британскому шоколаду не так, как к продукции Франции или Бельгии. (В этом ему частенько помогала Бриджет, чьи познания в законотворчестве оказались кстати; дома в Борнвилле она, уложив детей спать, с головой погружалась в документы и отправляла мужу длинные факсы, в которых разбирала все подробности с тщанием криминалиста.) Днем же Мартин организовывал встречи с членами Европарламента, Еврокомиссии и прочими представителями “промышленных” шоколадных производств. Среди британской журналистской братии ему отираться не очень-то нравилось, но это входило в его задачи, и он заметил, что в разговорах все чаще стало мелькать одно имя. Большинство журналистов были одного сорта: примерно средних лет, циничные, ушлые, сытые по горло тем, что застряли в Брюсселе и вынуждены докладывать о работе Евросоюза, но по-прежнему настроенные работать добросовестно. Однако начали доходить до Мартина слухи об одном члене этой когорты, кто выделялся в ней изрядно: у него была светлая копна волос, и он разъезжал по Брюсселю на красном “альфа-ромео”, из магнитолы громыхал хеви-метал, Евросоюз он знал вдоль и поперек, поскольку провел почти все детство в Брюсселе, учился в Итоне, был президентом Оксфордского союза и решил пережить эту скукотищу – репортажи из Брюсселя для “Дейли телеграф”, – обращаясь со всем происходящим как с курьезом, безответственно работая с фактами и излагая любой сюжет так, будто работа Европейского парламента – часть изощренного заговора, нацеленного на то, чтобы ставить палки в колеса Британии на каждом повороте. Газета наняла его как репортера, но никаким репортером он не был, а был сатириком и абсурдистом, явно упивался происходящим и такое себе сделал имя, что всех остальных журналистов снедала зависть, и они изо всех сил старались сообразить, как бы им стать такими же, и уж до того мифической фигурой они его считали, что никогда не упоминали его фамилии, только имя. Они попросту называли его “Борис”.
Мартин с Борисом не знакомился, то есть разговора у них ни одного не случилось. Когда б ни появлялся Мартин в каком-нибудь баре, вечно оказывалось, что Борис только что умчался, а когда бы Мартин ни ушел из бара, ему назавтра всякий раз сообщали, что Борис появился сразу после этого. Борис был вечно на бегу, не останавливался ни на миг, вечно спешил, вечно впопыхах, вечно опаздывал, вечно не был толком готов, вечно перегружен – и вечно недосягаем.
– Его не поймать никак, – сказал Мартину Стивен, писавший для “Индепендент”.
– Он сам себе правила придумывает. А если решает, что ему его же правила не нравятся, нарушает их, – сказал Том, писавший для “Таймс”.
– Ему жизнь – один сплошной вселенский курьез, – сказал Филипп, писавший для “Гардиан”. – Он ни к чему не относится серьезно.
– Вообще-то кое к чему он относится очень серьезно, – сказал Энгус, писавший для “Миррор”. – К