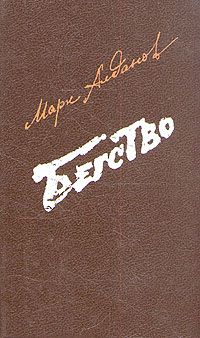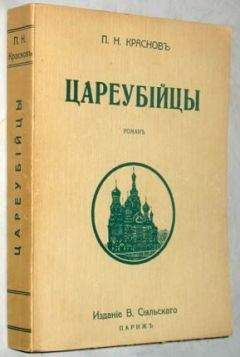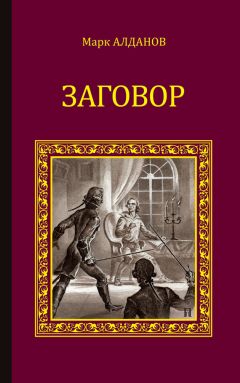— На днях опять к вам заеду… Внесу малость, — небрежно сказал он. — На человеколюбивый процент, — добавил Штааль, подчеркивая улыбкой официальное выражение. Он снова сел в сани и громко приказал ехать в Михайловский замок. Извозчик заторопился. Проходивший господин вздрогнул и оглянулся на Штааля.
После недолгого пребывания в тепле крепкий мороз чувствовался не так сильно. День кончался. В кабаке, на углу двух улиц, засветился желтоватый огонь. Бородатый кабатчик у окна задергивал занавеску, опершись рукой на плечо сидевшего с поднятой головой, радостно улыбавшегося человека, перед которым на столе стояла бутылка. «Вот оно, настоящее счастье, — подумал Штааль, — так бы и прожить весь век, как они, и ничего не нужно другого…» Медно-красное улыбающееся лицо исчезло за грязной помятой занавеской. Тоска еще крепче сжала сердце Штааля.
Раздеваясь в вестибюле замка, он подумал, что хорошо было бы нынче снова встретить Шевалиху и возможно холоднее ей поклониться. «Нет, ведь нынче не будет французского концерта…»
Первый знакомый, которого Штааль увидел, был Иванчук. Он ежедневно заезжал в Михайловский замок и получал там нужный ему зачем-то список лиц, приглашенных к высочайшему столу. Иванчук вел тщательный учет того, кто и как часто получал приглашения к царским обедам; у него был даже заведен особый реестр, который он знал едва ли не на память. Штааль теперь немного щеголял перед Иванчуком тем, что постоянно находился во дворце. Он знал, что Иванчук ему завидует, и это было приятно: обычно ему почти во всем приходилось завидовать Иванчуку. Но, несмотря на постоянное пребывание Штааля в замке, всегда выходило так, что придворные новости он узнавал позднее, чем Иванчук. На этот раз вид у Иванчука был необычно растерянный. Он явно был чем-то сильно взволнован. Тем не менее Иванчук и теперь не мог отказать себе в небольшом удовольствии. Крепко пожав руку Штаалю и внимательно на него глядя, он спросил неопределенным тоном:
— Ты как думаешь? Их скоро выпустят?
Увидев по лицу Штааля, что сенсационная новость ему неизвестна, он добавил пренебрежительно:
— Да, впрочем, вам, верно, и не сказали? Государь посадил сынков под домашний арест.
— Великих князей? — воскликнул Штааль, в волнении не подумав о том, что его неосведомленность и изумленный вид доставят Иванчуку удовольствие.
— Обоих: и Сашу и Костю. Сначала велел их заново привести к присяге, а потом посадил под домашний арест… Ну, прощай, мне некогда…
Иванчук убежал, замахав руками. Штааль видел, что его приятель находится в большой тревоге. «Да, это вправду очень сурьезно. Это на нас на всех может сказаться и на деле нашем», — подумал он холодея.
В Михайловском замке было очень тихо. Настроение у всех было чрезвычайно тяжелое. Штааль еще на лестнице узнал, что государыня императрица как раз вернулась из Смольного института, что вечерний стол назначен на девятнадцать кувертов и что приглашенные уже собрались в гостиной, поджидая выхода его величества. Государь, как говорили шепотом, настроен переменчиво: не то радостно, не то бурно — не поймешь.
Наследник престола действительно был арестован в своих покоях и провел день в смертельной тоске. К вечеру его позвали к столу государя. Александр Павлович привел себя в порядок (он много плакал в этот день) и, сделав над собой тяжкое усилие, поднялся в верхний этаж. Ему было мучительно неловко: не то он был арестован как заговорщик, не то наказан как мальчик. Но чувство неловкости подавлялось смертельной тоскою.
В комнате, смежной с той гостиной, где собрались приглашенные к вечернему столу в ожидании выхода государя, наследника встретил граф Пален. На его лице сияла благодушная, почти игривая улыбка. В тоскливом взгляде Александра Павловича ненависть примешалась к надежде.
— Третий батальон Семеновского полка, как изволите знать, занял на нынешнюю ночь наружный караул замка, — негромко, вскользь, сказал Пален беззаботным тоном.
Александр Павлович изменился в лице, открыл рот, хотел что-то сказать и не мог. С минуту они молча смотрели друг на друга. Великий князь бледнел все больше.
— Петр Алексеевич, — прошептал он. — Клянитесь мне, клянитесь, что ни один волос не упадет…
— Клянусь, клянусь, — небрежно перебил его Пален.
«Все-таки лучше было просто сказать „клянусь“, — подумал он, опять чувствуя, что, быть может, себя губит.
Нарушая правила этикета, Пален первый отошел от великого князя.
Государь, с шляпой и перчатками в руке, вошел в гостиную. Озираясь по сторонам и фыркая, он кивнул головой в ответ на общий поклон. Затем подошел к наследнику престола и с минуту молча глядел на него со странной насмешливой улыбкой. Несмотря на улыбку, неподвижные глаза Павла горели. Гости замерли. Среди приглашенных в этот вечер к высочайшему столу заговорщиков не было. Но об аресте наследника престола знали все, и все чувствовали, что нечто странное происходит между царем и его сыном. Александр Павлович был мертвенно бледен. «Упадет в обморок или нет?» — с любопытством спросил себя Пален.
Забили часы. На пороге гостиной показался старичок в раззолоченном мундире. Павел фыркнул, улыбнулся еще насмешливей и, отвернувшись от великого князя, пошел по направлению к столовой. Военный губернатор, не ужинавший в замке, почтительно склонился перед государем.
Одна за другой из гостиной выходили пары. Стоя сбоку от двери, чуть наклонившись вперед, граф Пален смотрел вслед императору.
— Прекрасное винцо, — говорил пажеский надзиратель, упорно и тщетно пытаясь завязать разговор. — У нас в корпусе тоже недурное, но с этим и в сравнение не пойдет.
Ужинало в маленькой комнате только несколько человек: Штааль, надзиратель, который привез пажей, да еще человека три из второстепенных чиновников дворца. Эти ели молча и, по-видимому, не тяготились молчанием. Штааль тоже был неразговорчив. Он почти не прикасался к блюдам, а пил одну воду, стакан за стаканом.
«Всякое тело пребывает в покоя или прямолинейного движения состоянии, доколе из оного состояния выведено не будет, — вспомнил Штааль слова школьного учебника. — Так нас учили. Это есть чей-то закон… Невтона, или Паскаля, или еще какого-то дьявола… Зовется закон инерции. По этому закону я и живу… Инерцией вошел в заговор против царя, инерцией пойду нынче ночью опровергать его. Пусть у меня есть веские резоны, — но сам бы я не пристал к скопу, ежели б они меня не заманили. Да, они меня заманили, как мальчишку. Точно я не вижу?.. И веских резонов, собственно, нет никаких… Да, я хочу себя поставить в лучшее положение относительно карьера и денежных способов. Но я не для того пошел на дело… И так было всегда… Зорич меня послал в Петербург, — я поехал, Безбородко послал в Англию, — поехал, Питт послал в Париж, — поехал. Потом меня угнали в поход… Правда, и в поход, и в Париж, и в Петербург я собирался своей охотою. Только меня не спрашивали… Нет, не то что не спрашивали, все же жизнь моя шла инерцией… И не одна моя, — большинство из нас так живет…»
— Отличное винцо, — повторил надзиратель.
— Нет, вино среднее, — раздраженно сказал Штааль. — Совсем плохое вино.
Все на него взглянули. Надзиратель торопливо разрезал индейку.
«Что ж, и Анну Леопольдовну лишили престола, и Петра III… Петра не только престола лишили. (У Штааля внезапно выступила на лице испарина. Он вытер лоб платком и жадно выпил еще стакан воды.) Как он противно гложет кость, держит рукой… Вот он вернется домой, уложит пажей, сам ляжет спать, и горя ему мало… А мне какая предстоит ночь… И что еще вслед за ночью… Скверная погода. Идти будет холодно. Вздор какой!.. Не остаться ли вправду здесь? Или поехать домой?.. Талызину скажу, что забыл про его приглашение, и изображу, что жалею страшно… Бог с ними в самом деле, и с чинами, и с деньгами, — проживу как-нибудь маленьким человеком, как этот вот… Что за противная морда, давно я такой не видел!..» — злобно думал Штааль, недолюбливавший воспитателей по свежим еще школьным воспоминаниям. Его сосед, по-видимому, почувствовал эту непонятную ему злобу. Он отвернулся не то смущенно, не то подчеркнуто равнодушно, с видом: «мне все равно, да и не велика ты тоже фигура».
— Видел я нынешний вечер вблизи господина военного губернатора, графа фон дер Палена Петра Алексеевича, — сказал он чиновнику. — Давно мне, признаюсь, желалось…
Чиновник что-то промычал.
— Вельможа обширного ума и добродетели, — почти с отчаянием произнес надзиратель.
Из соседней комнаты донеслись голоса. Там ужинали люди поважнее, однако не приглашенные к царскому столу.
«Де Бальмена на днях арестовали за какую-то уличную историю, отдали в солдаты и отвезли в казармы… Жаль мальчика… Все тот делает, сумасшедший, надо бы его и вправду прикончить… Если выйдет, я первый потребую освобождения де Бальмена и сам за ним поеду. То-то обрадуется!.. А если не выйдет?.. Право, отлично можно сказать Талызину, что забыл. Мало ли про какие приглашения люди забывают… Или напишу ему сейчас, что по моральным причинам не могу участвовать, помня о присяге, тайну же буду блюсти, как честный человек, и от всяких наград отказываюсь. То есть ежели не могу участвовать, то какие же награды, — глупо и писать о наградах… Нет, моральным причинам не поверят. И писать неблагоразумно. Лучше просто скажу, что забыл… Тоже не поверят… Эх, да пусть говорят, что хотят, черт с ними! Так и сделаю… Я не могу идти на такое дело, грех убивать царя», — решил Штааль.