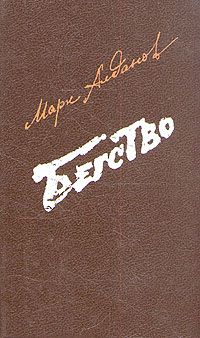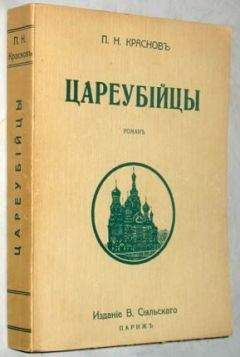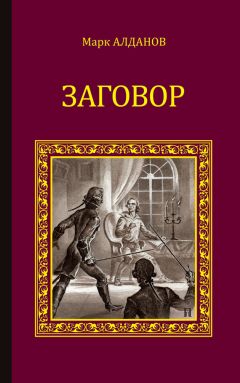За спиной императора Уваров, много выпивший за ужином, скорчил гримасу и постучал пальцем по лбу.
— Oui, Sire[170], — пробормотал растерянно Саблуков.
Павел смотрел на него в упор. Потерявший голову офицер стал что-то объяснять негромким дрожащим голосом.
— Я лучше знаю! — вскрикнул император. Он заговорил быстро и бессвязно. Солдаты дико смотрели набок в одну точку. Павел замолчал, тяжело вздохнул и повернулся.
— Ах, да, Уваров?.. — произнес тихо, полувопросительно, государь. — Я что-то хотел вам сказать… — Он задумался. — Ах, да! — вскрикул он и задумался опять. — Да, да, да… Пажи!.. Конечно… Пажи…
Уваров, наклонив голову, почтительно смотрел на грудь императора.
— Плохие пажи, плохие, — бормотал Павел. — Не нравятся мне эти пажи… Что? что? — вскрикнул он, озираясь.
Было очень тихо.
— Почему привозят пажей только из пажеского корпуса, а?
— Не могу знать, ваше величество, — по-солдатски ответил Уваров. Павел смотрел на него совершенно безумными глазами.
— Пусть возьмут других пажей, в кадетском корпусе. Там есть славные мальчики… Слышите, сударь? В первом кадетском корпусе. Сейчас извольте сообщить князю Зубову, чтоб сегодня же прислал сюда кадет…[171] Что?..
— Слушаю-с, ваше величество…
Павел быстро от него отвернулся.
— Караул убрать! Не надо конногвардейцев… Не надо!..
— Слушаю-с, ваше величество.
Раздалась команда:
— Караул! Напра-во! Шагом марш!..
Государь злобно-радостным взглядом провожал выходивших солдат, затем с минуту еще прислушивался к удалявшемуся топоту.
— Прощайте, сударь, — отрывисто сказал он Уварову. Уваров звякнул шпорами и низко поклонился. — Я иду отдохнуть, сударь, прощайте, — вздохнув, повторил Павел другим, точно умоляющим, тоном. Он замолчал.
— Займите места здесь, — обратился он к двум камер-гусарам. — И никого ко мне не пускать… Никого!.. Слышите? Никого…
Он кивнул головой, зачем-то надел шляпу и прошел в спальную, повторяя вполголоса скороговоркой: «Чему быть, тому не миновать… Чему быть, тому не миновать…»
«Visitando interiora terrae rectificandoque invenies occultum lapidem, veram mediciam».[172]
Баратаев переписал из книги эту фразу на толстом листе пергамента, отчеркнул первые буквы слов и дрожащей рукой выписал в ряд. Затем открыл тетрадь «Камень веры» и записал прыгающими буквами:
«Открылось ныне мне явственно, что славный Базилий Валентинус не иное мыслил, как купорос или vitriolum. От чего и я не могу отрещися, как с долголетними моими опытными изучениями несогласицы в оном не вижу. Сколь к яснейшему истины познанию… Не едино есть вещество первичное, земля Адамова. Второе соучаствует, aqua vitae[173], что и древним ведомо было. Из прозорливой рукописи, виденной мною в чужих землях, записал я памятный магистериум:
«De commixtione puri et fortissimi xkok cum III qbsuf tbmkt cocta in ejus negotii vasis fit aqua…»[174]
И сию оккультную тайну токмо долгим прилежанием дано было мне разгадать. Вместо букв непонятных, нелепице подобных, должно читать буквы оным предшествующие. И будут тогда слова: vim, parte, salis[175].
Богом же просвещенный Арнольдо из Виллановы указывает мудро: «Qui scit salem et ejus solutionem ille scit occultum secretum».[176]
И сие разногласности с моими изучениями не делает, ибо в рассуждении соли и жара не жидкость Невтонова, а неведомое должно родиться.[177]
«Ainsy le mystère semble éclairci. C’est par la réunion convenable et réfléchie, dans l’oeuf philosophal, de l’esprit de-vin, du sel et de la couperose que j’obtiendrai le puissant magistère que seuls, parmi les philosophies de la nature, les plus sages ont connu icy-bas. Eau pénétrante, lait virginal. Sic habes elixir vel lapidem philosophum. Elixir perfecte completum sive sapientum tinctura. Et totum opus naturae non est occultum Deo, sed mundanis hominibus».
[«Таким образом, тайна представляется проясненной. Путем надлежащего и обдуманного соединения винного спирта, соли и купороса, я в принципе буду обладать могущественным чудодейственным составом, и эти вещества, единственные среди философов по природе, самые мудрые из известных на земле. Вода проникающая, молоко девственное (франц.)
Так ты получаешь эликсир или философский камень. Эликсир совершенно полный, или мудрости окрашивание. И каждая вещь в природе не есть Божье таинство, но земного человечества» (лат.) ]
В кругах чиновников Иванчук считался правой рукой военного губернатора. Он гордился этой своей репутацией и заботливо ее поддерживал. Пален в самом деле видел в нем очень полезного человека. Но в заговор его не посвящал и даже незнакомым молодым офицерам доверял более, чем Иванчуку. О перевороте, назначенном на 11 марта, Иванчук ничего не знал. Однако еще до того недели за две, как опытный человек с немалыми связями, он стал замечать, что в столице происходит нечто необыкновенное, подозрительное и весьма неладное. Некоторые тревожные признаки были ему, по роду его службы, виднее, чем кому бы то ни было другому. Они повергли его в крайнее беспокойство. Иванчук прекрасно понимал, что граф Пален, первоприсутствующий в коллегии иностранных дел, глава почтового ведомства, военный губернатор Петербурга, руководивший косвенно и Тайной экспедицией, не мог не знать всего, что происходит в городе. Мало того: подозрительные признаки, которые видны были Иванчуку, очень странным образом вели к самому графу Палену.
Иванчук впервые в жизни чувствовал, что решительно ничего не понимает. Несмотря на ходившие упорные слухи, он плохо верил в самое существование заговора. На памяти Иванчука никаких переворотов не было, и ему, по складу его ума, было трудно верить в дела, которых он никогда не видал. Но уж совсем непонятно было Иванчуку, зачем могло понадобиться его начальнику такое неверное, отчаянное дело. Пален был первым сановником России. Он стоял во главе правительства. Он был вдобавок богат и при милости к нему государя, очевидно, легко мог разбогатеть еще гораздо больше; Иванчук и то плохо понимал, отчего такой искусный человек не использовал в удобную минуту общеизвестной щедрости императора. Соперников по службе у Палена больше не было, — он только что заменил Ростопчина на посту первоприсутствующего в коллегии иностранных дел (многие были убеждены, что отставка и немилость Ростопчина были делом Палена). В обществе некоторые шепотом утверждали, что Пален хочет ввести в России конституционный образ правления. О конституции Иванчук имел понятие смутное. Но все то, что он о ней слышал, совершенно не вязалось с его мнением о целях, намерениях и уме графа Палена. Говорили, что при конституции всякое действие начальства будет, как в Англии, обсуждаться четырьмя сотнями выборных людей. Об этом Иванчук без смеха не мог и подумать, — как это четыреста человек будут обсуждать и подписывать бумаги. Конституция явно принадлежала к разряду вещей мало серьезных, и уж Палену она никак не могла быть нужна. «На какого черта ему аглицкий парламент? — с искренним недоумением спрашивал себя Иванчук. — Ну, еще говорят, будто Панин Никитка был за конституцию (об уволенных сановниках Иванчук всегда говорил и думал в прошедшем времени). Это куда ни шло: хоть и Никитке никакой не было выгоды, но он и об умном там любил поговорить, и книжки ученые этакие читал, целыми волюмами[178], ежели не врал (Иванчук всегда с недоверием относился к тому, что люди — не доктора какие-нибудь и не архитекторы, а обеспеченные люди — могут для собственного удовольствия читать ученые книжки). А Пален, нет, верно, враки…» Он не только считал Палена чрезвычайно умным, ловким и хитрым человеком; он думал даже, не без чувства легкой обиды, что Пален умнее его самого; правда, он делал поправку на разницу в возрасте и особенно в положении: «С его властью нехитрая штука быть умным». Иванчук склонялся к мысли, что, если есть доля правды в слухах о конституции, верно, тут со стороны Палена какой-то ловкий подвох, настоящий смысл которого еще трудно разгадать.
Иванчук долго колебался, должен ли он сообщить Палену о ходящих слухах и о тех тревожных признаках, которые он замечал. Собственно, такова была его прямая обязанность. Он говорил себе, однако, что лучше оказаться виноватым в служебном упущении, чем влопаться. Но в первые дни марта месяца признаки стали настолько тревожными, что у Иванчука возникли сомнения, уж не влопается ли он и притом самым ужасным образом, если никому ничего не донесет. Прежде таких сомнений не могло быть; перед Иванчуком впервые стал вопрос, кому донести.
Он ежедневно бывал в Тайной экспедиции, разговаривал там с людьми, которые должны были знать очень многое. Говорил он с ними осторожно и туманно. «С такими господами ни в чем уверенным быть невозможно», — думал он. Они отвечали ему еще осторожнее и туманнее. Однако он со все растущим беспокойством почувствовал, что и эти насквозь прожженные, видавшие всякие виды люди не только смущены, но находятся в чрезвычайной тревоге. Иванчук лишний раз убедился, как даже в этом учреждении боятся и почитают графа Палена.