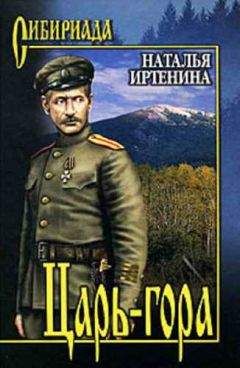Федор на мгновение одеревенел от изумления.
— Где ты набралась этого вульгарного цинизма?
— Ты просто плохо меня знаешь, — ответила она, исчезая. — Даю тебе на сборы пятнадцать минут.
— Во так вот, — сказал дед, двинув головой. — Понял, Федька?
— Тоже мне, командирша нашлась, — крикнул Федор в окно.
— И штаны застегни, — сурово добавил дед. — А девку мне чтоб не обижал.
Суетливым движением Федор подтянул молнию на брюках.
— Обидишь ее, как же, — пробормотал он.
…Пять часов спустя позади осталось горное ущелье с ручьем, по которому перешли на другую сторону Курайского хребта. Федор взмолился:
— Все. Перерыв на обед.
— Натрудил мозоль?
— Целых две.
— Говорила же тебе, сиди ровно и держись ногами. А ты прыгаешь на лошади, как бурдюк.
— Да лучше сидеть на электрическом стуле, чем на этой скотине, — вспылил Федор.
Аглая подъехала ближе и вдруг хлестнула сорванной веткой по крупу его лошади.
— Догоняй!
Она понеслась галопом. Кобыла Федора, резко сменив скорость с первой на третью, поскакала следом, отставая на полкорпуса.
— Ты что делаешь?! Я же упаду! — завопил Федор, прижимаясь к холке лошади.
— А как еще быстро научить тебя держаться в седле? — крикнула Аглая и направила своего чалого жеребца наискосок через мелководную речку. В фарватере поднятых брызг вздымала воду и его каурая кобылка.
Федор, крепко облепив лошадь руками и ногами, отдался на волю судьбы.
Когда он почувствовал, что кобыла пошла медленнее и тяжелее, вокруг был лиственничный перелесок, покрывающий горный склон. Узкая дорога забирала вверх и терялась в свиристящих зеленых дебрях.
— Сколько это мы отмахали? — спросил он удивленно.
— Километров восемь. Хочешь передохнуть?
Федор распрямил спину, проверил свои ощущения и с содроганием ответил:
— Я не смогу с нее слезть. Кажется, я прирос к этой скотине. Даже страшно подумать, что ждет меня на земле.
— Вот и хорошо. Едем дальше.
— Дорогая моя Аглая, — с мукой в голосе произнес Федор, — тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты изверг? Извергиня.
— Первый раз слышу.
Федор стоически превозмогал себя еще пару часов, периодически принимаясь разминать затекшие плечи и седалище: крутил поочередно руками и пытался вставать в стременах.
— Что ты делаешь? — спросила Аглая, наблюдая за его телодвижениями.
— Даю роздых мозолям, — ворчливо ответил Федор.
За эти два часа вокруг сменялись разнообразные картины: сосновые боры, светлые кедровые редколесья, ковыльные степи, кормящиеся стада овец и дремлющие возле них пастухи, альпийское разноцветье, гудящее шмелями и завораживающее красками. В конце концов Федора начало клонить в сон. Он уткнулся лицом в гриву кобылы и вдруг осознал, что сидит в густой лесной траве, прислонившись к стволу дерева, а нос ему щекочут мелкие листья соседнего кустарника. Лошади паслись неподалеку, Аглая раскладывала на земле самобранку.
— Как это я? — встряхнулся Федор и тут же пожалел, что сделал это. Все тело, до самой мелкой косточки, ныло и жаловалось, не желая больше совершать какие-либо движения. Да и без движений все мышцы пели на разные лады, выводя грустную, очень несчастную мелодию боли.
— Лошадям тоже нужен отдых, — флегматично объяснила Аглая.
— А-а, — сказал Федор и подумал, что нужно бы оскорбиться, но не стал — не было сил.
Он принялся молча насыщаться. Не хотелось тратить усилия на разговор, и вскоре Федор обнаружил, что ни ему, ни Аглае затянувшееся молчание не в тягость.
— Хорошо, когда людям есть о чем молчать, — заметил он, жмурясь на пробившееся сквозь сосновые лапы солнце. — Между прочим, это важный показатель психологической совместимости.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Просто хочу, чтобы ты имела это в виду.
— С тех пор как ты приехал сюда, это первый раз, когда тебе лень изображать болтуна, — сказала Аглая.
— Непринужденная светская болтовня тоже, знаешь ли, большое искусство, — раздраженно ответил Федор. — И потом, почему ты все время мне перечишь? Самоутверждаешься за мой счет? В конце концов знай свое место, женщина.
В глазах Аглаи появилось удивление.
— Прости, — кротко и как-то по-детски попросила она. — Я больше не буду.
— Не будешь перечить мне? — не поверил Федор.
— Не буду.
— И я могу болтать, о чем мне вздумается?
— Да.
— И ты никогда не будешь пытаться оспорить мои… слова?
— Да, — с запинкой произнесла она.
— И… мои действия? — Федор понимал, что его заносит, но не мог остановиться, испытывая границы дозволенного. В конце концов не он пригласил ее на прогулку в горы, где на много километров вокруг одни елки-палки и где не властен голос разума — здесь живут только инстинкты.
Аглая пожала печами и отвернулась лицом в сторону.
— Как хочешь.
Федор счел это необыкновенным подарком и от волнения даже не стал задумываться о причинах подобной щедрости. Но немедленно освободить подарок от упаковки ему было не под силу, — каурая кобылка на неопределенное время превратила его в чистого платоника, вынужденного лишь любоваться видами.
Ничего не сказав, в несколько приемов он поднял свое бренное тело с земли и, чувствуя себя переполненным во всех смыслах, медленно пошел в глубь леса. В нескольких метрах от него по веткам скакала темно-серая белка, во рту она держала шишку. Федору вдруг с пронзительностью подумалось, что скоро зима, когда всякая тварь сидит по берлогам и приживает детенышей. В горах заметно было увядание — жухла трава, в лесной зелени, среди берез-вековух с мозолями древесных грибов на стволах проглядывали рыжие пятна осени. И ему тоже остро захотелось иметь собственную берлогу, приживать в ней детенышей и, ни о чем не тревожась, смотреть из окна на метельные снегопады.
На обратном пути, недалеко от поляны, где Аглая возилась с поклажей, он остановился. В траве между кустами бересклета белела голая человеческая нога. Оглянувшись по сторонам, Федор подошел ближе и осторожно отвел ветки. На земле лежал мертвец, полностью обнаженный и местами поеденный. От его вида внутри Федора взбунтовался съеденный обед, и многих трудов стоило усмирить его с помощью дыхательной гимнастики.
Звуки этой борьбы привлекли внимание Аглаи.
— Стой, — страшным голосом крикнул он ей, — не подходи.
Но она уже подошла и увидела ногу.
— Лучше не смотри, — честно предупредил он.
Аглая подняла ветки кустов и надолго замерла. Федор заглянул ей через плечо.
У мертвеца отсутствовала одна нога и рука — казалось, их выдернуло из тела какой-то невероятной силой. Лицо сохранилось, но глазницы были пусты.
— Это же… — Федор прикусил язык.
Аглая быстро обернулась к нему.
— Ты его знаешь?
Не выдержав ее взгляда, Федор виновато отвернулся.
— Его Толиком звали… Мы поехали в горы вчетвером. Он пропал первой же ночью.
Аглая молчала и не сводила с него глаз.
— Ну что ты буравишь меня! — взорвался Федор. — Искали мы его. Не нашли. Как сквозь воду. Так и подумали — в реке утонул. И второго тоже… — Он осекся.
— Что тоже?
— Медведь заломал, — сдался Федор. Голос его разом поблек, стал пустым и невыразительным. — Страшенный медведь.
— А вас не тронул? — пытала Аглая.
— Нет, ушел.
Аглая в задумчивости отошла от кустов, скрывавших мертвеца.
— Это она.
— Кто? — растерянно спросил Федор.
— Она, — повторила Аглая.
Федор передернул плечами и решил замять тему:
— Думаешь, надо милицию?
— Не надо. Только хуже будет.
Аглая стала собирать сухие палые ветки и прочую земляную ветошь, забрасывая ими труп. Федор обломал соседние кусты и укрыл мертвеца зеленым саваном. Постояв немного возле импровизированного кургана, Аглая сказала:
— Идем отсюда.
Федор покачал головой.
— Бред какой-то.
Аглая отвязала лошадей, взнуздала и вывела на лесную тропку, протоптанную не то охотниками, не то лосями. Федор, забыв о том, что каждая его клеточка тянет жалобную ноту, скрепя сердце, оседлал рыжую кобылку. Аглая по-ковбойски взлетела в седло и пустила жеребца вскачь.
К вечеру следующего дня они добрались до Верхнего Ильдугема. Река к концу лета обмелела, лошади без труда перешли ее по каменистому дну, намочив ноги седоков и лишь изредка пускаясь вплавь. Федор начинал обвыкаться с верховой жизнью и с мыслью, что это не худший способ передвижения. Он даже пытался немного джигитовать для развлечения. Аглая скептически взирала на эту сомнительную акробатику и просила не мучить напрасно лошадь. По временам на Федора нападала задумчивость, он отпускал поводья, предоставляя смирной кобыле самой передвигать копыта в нужном направлении, и рассеянно оглядывал горные зубцы, вонзающиеся в небеса. В такие моменты ему становилось неуютно и хотелось без оглядки скакать назад.