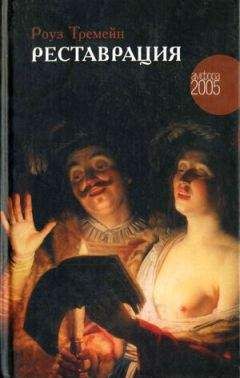Мать Кэтрин — высокая полная вдовушка лет сорока-сорока пяти. Ей нравится, когда ее называют сразу двумя данными при крещении именами — Фрэнсис Элизабет, как бы соединяя эти имена в одно. На жизнь она зарабатывает тем, что пишет письма для тех, кто не умеет ни читать, ни писать. Я видел ее творчество — почерк ужасный, орфография и того хуже. На ее дверях висит табличка с надписью: Фрэнсис Элизабет Уитенз. Пишу письма. Пенни за строчку. Писать ее учил не школьный учитель, а покойный муж, работавший клерком в Патентном бюро. «Он был, — говорит мне Фрэнсис Элизабет в наш первый вечер в ее доме, — очень добросовестным работником».
Сам дом маленький, темный, и в нем очень жарко: в двух каминах — наверху и внизу — постоянно поддерживается огонь как средство против заразы: в Чипсайд уже два раза приходила чума. Пахнет дымом, старым лаком и камфарой, окна узкие и закопченные. Отведенная нам комната немного похожа на ту, что я давным-давно снимал на Ладгейт-Хилл — в месте, расположенном довольно близко отсюда. В той постели я познал сладостное забвение, здесь же я не мог даже спать. Я лежу без сна и слушаю тишину, накрывшую Лондон. А вот Кэтрин спит Ее спутанные волосы лежат на моем плече, а рука перекинута через грудь.
Глава двадцать вторая
Профилактика
Вскоре после нашего приезда в Лондон меня послали за чернилами для Фрэнсис Элизабет; на своем пути я повстречал группу мужчин, одетых в лохмотья, они безжалостно стегали себя, подобно флагеллантам[66] во времена Черной Смерти в 1348 году. Это было на Чейндж-Стрит, и я предположил, что они идут в собор св. Павла молиться о прекращении эпидемии. Мне было любопытно узнать, какое утешение может принести такое истязание плоти, и я пошел за ними.
Я обратил внимание, что все идущие нам навстречу люди с величайшим страхом взирают на этих флагеллантов, словно это они принесли заразу, и даже переходят на другую сторону. Как часто страх перед чем-то одним, подумал я, порождает в людях абстрактный строк страх вообще, и тогда они начинают бояться всего необычного и непонятного. За этой мыслью последовало осознание того, что лично я уже ничего не боюсь, даже смерти, потому что больше не считаю свою жизнь чем-то особенным или драгоценным. Тут я улыбнулся: ведь в мои мысли неожиданно, без всякого предупреждения, вошел король. Оценив мое новое бесстрашное состояние, он фыркнул и сказал: «Неплохо». И тут же, как обычно, удалился, не снисходя до подробных комментариев.
Мы приближались к собору. Не зная, как долго продлятся молитвы флагеллантов в церкви, и помня о своем поручении купить чернила, я решил подойти к ним прямо сейчас и попросить уделить мне несколько минут до начала моления.
Подойдя к ним сзади, я заметил у двух бичующихся на спине мелкие ранки, вроде созревшей и лопнувшей сыпи, эти ранки воспалились, из некоторых сочился гной. Я начал с того, что сказал (довольно громко, чтобы перекричать их завывания): «Хочу обратить ваше внимание, добрые люди, на то, что я врач, и, если боль от ваших ран станет совсем уж невыносимой, я могу дать вам бальзам, чтобы ее смягчить…»
Флагелланты разом повернули ко мне головы, и я увидел вместо обычных человеческих лиц раскрашенные белой глиной физиономии, напоминавшие черепа. Было ясно, что в их намерения входило отпугивать людей, и то, что я осмелился приблизиться к ним, явно смутило их.
— Наша боль как раз по нам — не больше и не меньше, — резко ответил один мужчина, — что же касается вас, докторов, вот кому не помешало бы понести наказание.
Что до меня, ответил я, судьба и так отнеслась ко мне достаточно жестоко, так что я не чувствую необходимости подбавить еще жару. Я засмеялся своей шутке, надеясь вызвать что-то вроде ответной улыбки у флагеллантов, но не тут-то было. Поэтому я быстро перешел к тому, что хотел спросить. «Оглянитесь вокруг, — ответил один из них, — и вы увидите не Лондон, не город, который вы хорошо знали раньше, вы увидите место, погрязшее в хаосе. Если человек живет в хаосе, он быстро сходит с ума. С нами такого не случится. Потому что мы ничего не видим, не слышим и не обоняем. Мы знаем и чувствуем только свою боль».
Я поблагодарил его и, предоставив флагеллантам следовать их путем, отправился по своим делам. Неспешно брел я к Клок-Лейн, надеясь там купить чернила для Фрэнсис Элизабет, если только знакомый продавец не умер от чумы за время моего отсутствия. Пока шел, я все время думал о словах и поступках флагеллантов и задавался вопросом, как следует вести себя в этом «царстве хаоса», чтобы сохранить остатки здравомыслия; в результате я пришел к выводу, что мне нельзя закрывать глаза на человеческие страдания, а, напротив, надо постараться определить размеры и границы бедствия. Походить по городу. Нарисовать схему распространения чумы (нет, не на холсте!), нарисовать в мозгу — где она зародилась, как мигрировала, какие способы изобретают горожане, чтобы избежать заразы. Я составил нечто вроде плана действий, который мог помочь мне справиться с вяло текущим временем, с тоской. Такая перспектива взбодрила меня.
Ближе к родам Кэтрин стала много спать, и, как бы из солидарности с дочерью, много спала ее мать — она клевала носом и задремывала над письмами в жарко натопленной комнате, и, когда белая рука Кэтрин падала с постели, а голова матери утыкалась в стол, я тихонько выскальзывал из дома.
Женщины не спрашивали, куда я хожу, это их, похоже, не интересовало. Они не сомневались, что я вернусь: Кэтрин заставила меня поклясться на зеленых тапочках, что я никогда не переступлю через нее во сне и не сбегу. Так я занялся составлением «карты» распространения чумы в Лондоне. Иногда я направлялся к северу от Чипсайда, но чаще к югу, туда, где текла река, с этими местами были связаны многие мои воспоминания, и я знал, что замечу любую перемену и сумею объяснить то, что увижу.
К Рози я не зашел. Именно на ее улице на двух домах были скорбные надписи: «Боже, помоги нам», а в Саутуорке у воды я обратил внимание на огромное количество крыс. Но я бы не стал утверждать, что Рози Пьерпойнт находится в большей опасности и имеет шанс скорее заболеть чумой, чем жители Ламбета, или Спиталфилдса, или Шоредитча. Нельзя сказать, что болезнь идет по земле — она словно является из воздуха, подобно носимым ветром семенам, которые по чистой случайности падают то тут, то там.
На реке звучали голоса, но гораздо тише, чем раньше: многие щеголи-придворные и их подруги сбежали из города и жили в сельской местности, там, наверное, и раздавались сейчас их крики и визг. Мне говорили, что у лодочников сейчас мало работы, некоторые даже голодают, поэтому я взял за правило каждый день брать напрокат лодку. Этот акт милосердия вознаграждался последними «речными» сплетнями. Так я узнал, что в придачу ко всем лондонским несчастьям сотни списанных на берег моряков, которым при увольнении ничего не заплатили, приехали в столицу требовать свои деньги в морском ведомстве и, так как этим несчастным негде преклонить голову, они быстрее подхватывают заразу — «им даже умереть негде, кроме как на улице, сэр, и мертвецы валяются прямо в канавах».
«А почему им не заплатят?» — спросил я лодочников. В казне нет денег, был их дружный ответ, — «король неэкономно тратит отпущенные ему парламентом средства, — похоже, он собирается и впредь кормить всех лживыми обещаниями, надеясь, что ему будут приносить деньги на блюдечке». Я вспомнил, как король сказал, что «медовый месяц» его правления остался позади. Тогда я ему не поверил, но он оказался прав: народная любовь к нему пошла на убыль. Но только не моя.
Я уже несколько недель слонялся по Лондону, когда ко мне пришло осознание очень важной вещи: я не просто пытался постичь суть катастрофы, постигшей город, мне хотелось понять, что лично я могу сделать в этой ситуации. Я стал спрашивать всех, с кем сводила меня судьба, — лодочников, торговцев пирожками с угрями, продавца чернил на Клок-Лейн: «Как мне, профессиональному врачу, лучше помочь людям?» Однако никто толком ничего не говорил. Некоторые плевались: само слово «врач» вызывало у них крайнее отвращение. Другие советовали идти домой, запереть двери, жечь лекарственные травы и ждать, пока все не успокоится. Были и такие, что тут же раздевались и просили их осмотреть: нет ли на теле пятен и опухолей? Никто так и не сказал мне, чем я могу быть полезен. Думаю, я так и продолжал бы бесцельно бродить по городу, делать заметки, задавать вопросы и наблюдать, если б однажды ночью я не проснулся, лежа в кровати рядом с Кэтрин, и не ощутил в комнате и в своем сознании такую глубину безмолвия, которую нельзя сравнить ни с чем на свете. Окутанный им, я лежал, устремив взор в темноту и думал, что бы это могло быть. Прошло несколько минут (во всяком случае, у меня было ощущение, что прошло именно столько, хотя точно я не знал), и тоща я понят, что ко мне вернулась Тишина Пирса.