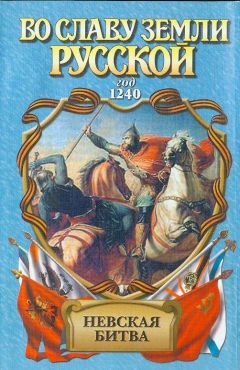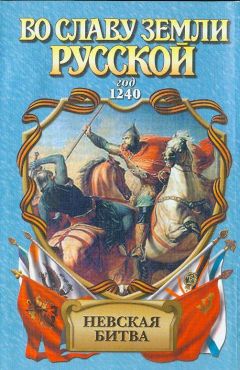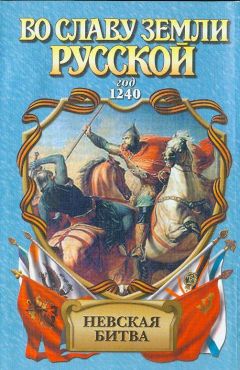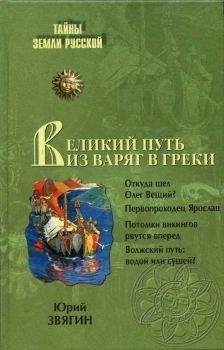— Цудной ты, отрок! — ответил он сердито. — Сам спрашивал, а сам опять спрашиваешь. Мишка же я!
— Мишка-то — сие я помню. А полностью как?
— А угадай.
— Полагаю, ты Михаил, аки наш славный витязь Миша Дюжий.
— Нет.
— Тогда, стало быть, Мечеслав?
— И не Мечеслав никакой.
— Ну, тогда у меня сил больше нет угадывать.
— Эх ты! Ратмишка я. А по-взрослому — Ратмир.
— Неужто Ратмир! — Меня, словно ледяной водою, так и обдало с головы до ног этим именем. — А знаешь ли ты, что у меня друг был… — Хотел было я поведать ему о незабвенном Ратмире, но не мог больше говорить. Недолгий разговор с малышом ненадолго отвлек меня от болей, но тут уж они накатили на меня с удвоенной силой, и я не выдержал — скрипнул зубищами и застонал.
— Что же ты? Умираешь? — полюбопытствовал мой собеседник.
— А что еще делать, браток? Умираю, как видишь, — сквозь огнедышащую боль прохрипел я, и пузырь липкой слюны вскипел на губах у меня. Разум мой вновь начал мутиться, все вокруг превратилось в огонь и кровь, и я почему-то все кричал, но не
голосом, а внутри себя и самому себе: «Ратмир! Ратмишка! Не бросай меня, Мишка-Ратмишка!» — будто это имя мальчика было спасительным крючочком, за который я цеплялся, чтобы не ускользнуть из зыбких рук жизни в цепкие лапы смерти. Иногда я слышал разговоры — ангел-хранитель давал мне знаки о том, что я еще не умер и что обо мне пекутся люди. «Не помирае?» — промолвил чей-то женский голос. «Жив родимец», — отвечал мужской. «Стало быть, лецить надо, — вновь говорила женщина, по природе
псковского выговора, смешно цокая. — Зразумей, не задеты жизненны жилы. Придется вороцать, бедного. Надо раны обиходить».
Доселе, сгорая от боли, пожиравшей всего меня, я и вообразить не мог, какие муки ждали еще впереди, когда они взялись меня ворочать да развязывать, да в каждой моей ране ковыряться, прочищая и чем-то смазывая, а затем вновь обвязывая. «Оставьте меня! Дайте же мне спокойно умереть!» — так и хотелось мне кричать им, но вместо слов одни только звериные стоны исторгались из моей утробы. Потом я не удержался и полетел куда-то глубоко-глубоко, куда, знаю точно, падал уже несколько раз до этого. И, падая, я все хватался руками за растущие по бокам пропасти сучья и травинки: «Мишка-Ратмишка! Не бросай меня!» А потом летел вверх и вбок, и снова вниз, и опять вверх… И у каких-то ворот, где то ли шла торговля, то ли собиралось вече, то ли намечалась свадьба, мне вдруг повстречался брат Пельгусия, муж моей Февро-нии, который некогда лаял, а потом принял православное имя и погиб в славном Невском сражении как истинный христианин. «Опять тебя, собаку, сюда тащит! А ну пошел отсюда!» — злобно пролаял он мне прямо в лицо, и я хотел было двинуть ему кулаком по роже, а меня назад потащило, да так, что внутри замутилось. Даже не успел ему сказать, что он сам собака. И снова я летел — то вверх, то вниз, то в бок, то кувырком… И снова возвращался туда, куда мне менее всего хотелось вернуться, — в боль!
Очнувшись в очередной раз, я мечтал увидеть мальчика, но теперь надо мной склонялось взрослое мужское лицо, довольно приятное.
— Ну? — спросило оно. — Живой ты аи нет?
— Живой, — ответил я, но не услышал своего голоса. Видать, только губами пошевелил.
— А коли живой, говори, кто ты есть на белом свете?
— Я — Савва. По прозвищу Топор, — вновь еле слышно ответил я.
— О-о-о, видать, и впрямь — живой! — засмеялся добрый человек.
— А ты кто? — спросил тогда я.
— А я — здешний хозяин дома. И звать меня — Владимир Гуща. А придется мне, Савва Топор, уновь тебя терзать и вороцать, поелику ты от всяких ненадобностей поизбавился и следует тебя омыть, а заодно и раны твои наново перевязать и удобрить.
— Не надо… — жалобно пробормотал я, но тщетно. Вновь меня подвергли пытке, и опять я летал туда-сюда от дикой боли, взывая к Ратмишке, будто к своему ангелу-хранителю. Но только с Пельгусиным братом на сей раз мне уже не довелось встретиться у тех странных ворот, и никто не лаял на меня, а значит, теперь уж я до самого того света не достиг в своем полете.
Открыв глаза, увидел своего мальчишку и обрадовался так, будто Александра Ярославича встретил.
— А-а-а, Ратмир… Как поживаешь, Ратмир?
— Я-то — хорошо. А ты-то?
— И не спрашивай. А скажи, Ратмир, что ты умеешь?
— А что хошь умею. Хошь, могу конем иготать. — И он тоненько заиготал, подражая конскому ржанью. — Похоже?
— Очень. Ты, наверное, коней любишь?
— Коней-то? Люблю, а что ж.
— А какие есть кони, ведаешь?
— А как же! Цорные, белые, фряжьи, грецески, еще есть немецкий конь, а еще — мисюрьский…
— Какой-какой? Мисюрьский? Сроду я про таких не слыхивал. Да точно ли есть такой, Ратмир Владимирович?
— Откуда я тебе Владимирович! Я вовсе не Владимирович, а Глебович.
— Разве? А что ж Владимир Гуща — не отец тебе?
— Какой же он отец? Он — дядя.
— А отец где? Воюет?
— Если б… А то ведь убили отца моего немцы. И матушку, и братьев… Мы в Изборске жили. Оттуда меня дядя Володя и взял к себе в дети.
— Так ты сирота?..
— Ага. — И он глубоко вздохнул. — И Уветка меня обижает. Туда же еще — христианским именем он никакой не Увет, а Тереха.
— А ты каково прозываешься по крещению?
— Алексий.
— Ну, посиди со мной рядышком, Ратмир-Алексий Глебович… А я подремлю…
И едва он подсел ко мне поближе, мне стало покойно, боли в ранах сделались не столь огнедышащими, и я впервые погрузился в тихий и безмятежный сон. Но ненадолго. Вдруг, словно тревожная молния пронзила всего меня, и я подскочил, снова объятый болью во всех своих ранах. Увидев хозяина дома, первым делом спросил:
— А где же князь Александр Ярославич? Где все наши?
— Иде же им быть, — отвечал Владимир Гуща. — Повели немца на Омовжу. Там, сказывают, буде у них стражение.
— А я?
— А ты… Ты молись Богу, чтоб живой остался. А то ведь раны твои — где заживают, а где и подгнивают. Ну ницего, браток, жена моя всяких целебных мазей приготовила — и на терпентине, и на синелевых листьях, и на стрекаве, и на баркане97 , — на чем только у нее нет усяких знахарств. Только бы сюда немец не заявился, а то ведь придется тебя такого еще и прятать.
— А который же день я тут после битвы?
— Да всего-то третий денек, брате, а уже вон как разговариваешь. Поправляешься, стало быть, в здравом уме. Ницего, поставим тебя на ноги!
Глава третья
Вождь рыцарей, бесстрашный Андреас фон Вель-вен, был в том приподнятом и неизъяснимо прекрасном расположении духа, в каком пребывает охотник, подранивший зверя и идущий по его следу, чтобы добить. Его радовало все — и яркое солнце, превращающее стальные доспехи в золото, и ослепительно-голубое небо, любующееся им и его рыцарями, и даже мороз, наполняющий легкие свежестью и силой. Хотя мороз, конечно, был некстати — гораздо лучше, если бы потеплело, чтобы лед на озерах стал опасным для воинов, и войско Александра оказалось бы вынуждено отступать вдоль берегов до самого Плескау98 . Или принять бой где попало, а не там, где того хочет Александр.
Андреас давно угадал мечту строптивого русского князя — он хочет заманить рыцарей Тевтонского ордена туда, к северу, где река Эмбах" впадает в Пей-пус100 . Семь лет назад там, на льду Эмбаха, Александр с отцом успешно разгромил войско ордена, пустив многих рыцарей под лед реки. Но теперь Андреас фон Вельвен сделает все возможное, чтобы не доставить ему такого удовольствия, он не пустит его к Эмбаху, а сбросит на лед озера и там уничтожит.
Шел третий день после того, как передовой, довольно крупный отряд ордена вступил в бой со значительно меньшим по численности дозорным отрядом Александра и полностью разгромил его. Александр потерял в бою нескольких лучших своих витязей — погиб главный новгородский воевода Домаш, смертельно раненными были увезены с поля боя двое других славных вояк — главный тверской воевода Кербет и оруженосец князя Савва, тот самый, который подрубил столб и повалил великую ставку Биргера в битве на Неве.
Тогда, на Неве, взошло солнце Александра. Здесь оно должно погаснуть.
Два года назад, находясь в Дарбете, Андреас готовил войска, чтобы идти на помощь объединенной скандинавской рати, когда вдруг узнал о том, что Александр, проявив какую-то неслыханную прыть, наскочил на шведов, норвежцев, финнов и датчан в месте впадения речки Ингеры101 в Неву и нанес им сокрушительное поражение. Доблестные викинги, посланные папой Григорием, претерпели такой позор, что датчане, к примеру, и вовсе запретили где-либо упоминать о своем участии в том походе. Тогда же двое сыновей датского короля Вальдемара, Кнут и Абель, вывели войско из Ревеля, чтобы вместе с Ливонской комтурией Тевтонского ордена идти с войной на Гар-дарику.