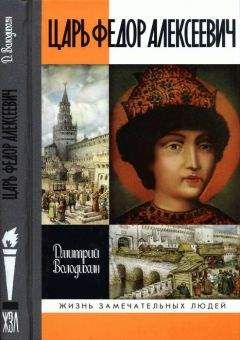И после паузы неожиданно спросил:
— А ты-то сам откуда родом? Сказывали, гречанин. Верно?
— Гречанин-то гречанин, а уродился я в княжестве молдавском и возрос там при православной вере. То княжество, как и все иные православные земли, завоеваны турком. И ждут своего освобождения, уповая на великую Россию.
— Придет время и Россия вступится за единоверцев, — уверенно произнес царь-отрок. — Не столь мы сильны ныне, чтоб с турком схватываться. Мы ныне на ближнее море глядим, на шведское. Вот откуда начинать надобно.
Спафарий в который раз поразился зрелому суждению мальчугана. Он все обдумал. Может, не один, может, с помощью бояр — наставников своих. Но обдумал. И трезв в своих суждениях. И уверен в правоте своего взгляда.
«Да, он будет великим царем», — уверился Спафарий.
Глава девятнадцатая
Огненное восхожденье
Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, тогда постигнет вас скорбь и теснота… Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их.
Книга притчей Соломоновых
Богатство боярыни Морозовой Федосьи Прокопьевны, вдовы Глеба Ивановича Морозова, брата царского воспитателя Бориса Ивановича, бывшего всевластным правителем на Руси, было не считано и не меряно. В хоромах ее прислужников было три сотни, в поместьях — восемь тысяч крепостных, раскатывала она по Москве в карете золоченой, отделанной изнутри и снаружи украшениями мозаичными, запряжка была в шесть, а то и в двенадцать лошадей, а за каретою следовали десятки сберегателей, рабов и рабынь. Не менее знатна и богата была родная сестра ее, княгиня Евдокия Урусова. И обе эти богачки почитали протопопа Аввакума, гонимого и опального, своим духовными пастырем и наставником. Обе проклинали Никона, не убоясь гонений и страданий за старую веру.
Были они покровительницами всех тех, кто клял Никона и никонианских еретиков. А таких на Москве было немало и властная церковь не могла их извести. Федосья Морозова была люта на язык. И когда митрополит Крутицкий и Коломенский Павел спросил ее, не причастится ли она по правленым служебникам, по коим и сам государь и все бояре причащаются, она ответила дерзостно:
— Не причащусь! Знаю, что царь причащается по развращенным служебникам Никонова издания. Враг Божий Никон своими ересями, как блевотиною наблевал, а вы ныне то сквернение его лижете. Явно, что и вы ему подобны.
Не поглядели на богатство и знатность сестер: заточили их по разными монастырям. Патриарх пробовал было вступиться за них. Какое там! Гневен был государь:
— Не знаешь ты лютости Федосьи. Как поведать тебе, сколь ругалась и ныне ругается она. Много наделала она мне сквернений. Ежели усомнишься, изволь сам испытать: призови-ка ее да попытай.
— Женщина, вдовица, что с нее взять, — пробовал было оправдать Морозову патриарх. — Несмышлена она.
— Женщина что ведьма! Ругачка непотребная! Бес в нее вселился. И в сестрицу ее, — отвечал царь. И был тверд в своей решимости строжайше наказать этих Аввакумовых еретиц.
Пытали их жестоко. Но они не отступились от двоеперстия, по-прежнему лаяли Никона и никониан, плевали в увещевателей. В боярской Думе в присутствии царя решали, как с ними поступить.
— Яко одержимых бесом сжечь в срубе, и делу конец, — советовал один из Милославских.
— Боярынь-то? — вступился за них патриарх. — Несмышлены они, не ведают, что творят.
— Очень даже ведают. Сказано — еретицы. Сколь много с ними вожжались — все стоят на своем. Нету им снисхожденья! За ними народ тянется, упорствует в староверстве своем.
— Коли сожечь, в мученицы их обратят, — не сдавался патриарх.
— А ведь верно, — согласился Илья Милославский. — Всего лучше — заточить. Может, постраждут да покаются.
Все было отнято. Все — до последней избенки, до последнего слуги, до последнего раба. Из князи в грязи. Оборотили сестер в нищенок. Кабы только в нищенок. У этих — воля. С паперти на паперть, Христа ради побираются, где более подают.
А у сестер и волю отняли. В земляное узилище ввергли. В яму сырую да хладную. После роскошеств да чистоты, услужников покорных да ложа пухового, сыра земля да рубище вместо покрова. А разлука пуще неволи. Небо сквозь решетку железную.
— Христос страдал, и мы страждем, — утешалась боярыня Федосья. — За веру истинную. От нее отречься — от родителей своих, от предков, от мучеников христианских. Они и не такое претерпели от врагов своих.
— Покайся, раба Федосья! — кричал ей сверху безвестный попик. — Не покаешься — не спасешься!
— Отыдь, никонов блевотник! — отзывалась боярыня. — Покаюся пред Господом, пред Богородицей. Чиста я пред ними и им молитвы возношу. Они мне все грехи отпустили: грех богатства, грех стяжания, грех гордыни. Чиста я ныне, чиста. Нечего у меня не осталось.
Подступались то один, то другой. То царский духовник, то митрополит Сарский да Подонский. Призывали отречься от заблуждений, взывали ко смирению.
Не вняла. И сестрица, сказывали, не покорилась. Тверды они обе, как кремень.
В один из дней сунул ей стрелец бумагу с воли. Свернутую в малый комок. Развернула, поднесла к скупому свету, напрягла глаза. И узнала: писал страдник великий, учитель истинной веры протопоп отче Аввакум.
Радость великая охватила боярыню Федосью. Свет и тепло исходили от измятого, сморщенного клочка бумаги.
«Свет моя, еще ли ты дышишь? — вопрошал Аввакум. — Друг мой сердечной, еще ли дышишь, или сожгли, или удавили тебя?.. Чадо церковное, чадо мое драгое, Феодосья Прокопьевна, провещай мне, старцу грешну, един глагол: жива ли ты?.. О, светила великия, солнца и луна руския земли, Феодосия и Евдокея, и чада ваша, яко звезды сияющыя пред Господом Богом! О, две зари, освещающий весь мир на поднебесней!.. Вы руководство заблудшим в райския двери и вшедшим… Вы похвала мученикам и радость праведным и святителем веселие! Вы ангелом собеседницы и всем святым сопричастницы и преподобным украшение!.. Но чудно об вашей честности помыслить: род ваш, — Борис Иванович Морозов сему царю был дядька, и пестун, и кормилец, болел об нем и скорбел паче души своей, день и нощь покоя не имуще… О, светы мои, новые исповедницы Христовы! Потерпим мало, да великая воспримем»…
Словно бы сияние снизошло на боярыню. И земляная тюрьма растворилась. Как бы грамотку сию утешительную сестрице передать — и в ее узилище воссияет свет.
— Страж, а страж! — воззвала она. — Передай грамотку сию сестре моей Евдокии. А я вознагражу тебя, как смогу. И Господь с тобою.
Стрелец наклонился, взял бумагу, ни слова не сказав. Поняла она: глаз начальственный за ним, ухо слышаще, а потому смолчал. Передаст. Многие стрельцы — ведала она — остались верны старой вере. И не только рядовые, но и начальники их. По-прежнему крестятся двумя перстами, как отцы их крестились. И в самом стрелецком Приказе голова его князь Хованский старую веру исповедовал, слышно, и все помощники его тож.
«Неискоренима она, истинно православная вера, покуда Русь на земле стоит. Столп она и утверждение истины, — думала боярыня Федосья в своей земляной норе. — Единого у Бога прошу: да воссоединит он меня с сестрою. И обе мы постраждем ради веры и легче нам станет переносить муки наши».
После истязаний и пыток, которые сестры перенесли с поразительным мужеством, но не отреклись, их повезли в Боровско-Пафнутьев монастырь. Монастырь-то старый, а нравы в нем жесткие. Игуменья получила строгий наказ: не мирволить узницам, рассадить их по земляным «кельям», вырытым для исправления согрешивших монахов. И непременно врозь, дабы не облегчали участь свою утешными беседами.
Однако не стерпел настоятель укоров праведников монастырских, а может, и дошли моленья боярыни Федосьи до Богоматери-заступницы, но в конце концов воссоединили сестер. А вскоре к ним подсадили и третью раскольницу, жену стрелецкого полковника Акинфия Данилова — Марью Герасимовну.
В этой «пещи халдейской» — в земляной тюрьме монастыря — дважды побывал сам Аввакум, и мысль об этом согревала узниц. Боярыня Федосья Сложила с себя мирское имя и приняла постриг под новым — Федоры. Но монахиню Федору не пощадили: тюремный режим не смягчили.
Сменив имя и отказавшись от всех мирских званий и богатств, она словно бы угождала своему духовному пастырю — протопопу. Он ведь некогда написал ей: «Али ты нас тем лутчи, что боярыня? Да единако нам Бог распростре небо, еще же луна и солнце всем сияют равно, такожде земля, и воды, и вся прозябающая по повелению владычню служит тебе не больши, и мне не меньши».
Все мирское они отвергли, и Марья стала их духовною сестрою по подвигу радения за истинную веру. Они все трое были подвижницы и так воспринимали их все окрест. И даже враги, скрежеща зубами, вынуждены были дивиться их подвигу во имя веры.