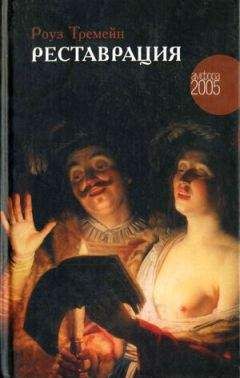Мы возвращались домой вдоль причалов. «Странно, — сказал я акушерке, глядя на воду, — и зимы-то по существу не было, и вот уже весна».
Эту ночь я провел на полу у постели Кэтрин. Акушерку отправили домой, остальные женщины тоже разошлись, все в нашем доме обретало прежний облик — только голоса Кэтрин не было слышно — раздавались хрипы и вздохи.
Утром, делая перевязку, я увидел, что из шва, не переставая, сочится кровь, текла она и из влагалища прямо на простыню. Я не представлял, что можно сделать, чтобы остановить кровотечение, не понимал, почему не свертывается кровь и не затягивается рана. Но тут я вспомнил, как в больнице св. Фомы мы однажды вскрыли вену на голове мужчины, у которого шла кровь из прямой кишки, и внешний надрез остановил внутреннее кровотечение.
Я взял руку Кэтрин. Рука была холодная и блестела от влаги. Я нашел вену, сделал надрез и спустил в таз немного крови. Неожиданно Кэтрин открыла глаза. Она пристально смотрела на меня, проникая взором в мои мысли. Взгляд ее был неподвижен. Она молча смотрела и постигала все, что я сделал, все, что пытался к ней чувствовать и не мог. Я отвел глаза в сторону, туда, где висела пустая колыбелька. Мне казалось, что, когда я снова встречусь с Кэтрин взглядом, ее глаза смягчатся и я прочту в них прощение. Но взгляд не изменился.
Тогда я протянул к ней руку. Больше я ничего не делал. Не шептал последнего «прости», не произнес молитвы, вообще ничего не сказал. Просто протянул руку и закрыл эти пронзающие меня глаза.
Фрэнсис Элизабет горько оплакивала смерть единственной дочери, а Финн с его нежным сердцем плакал, жалея Фрэнсис Элизабет, которая спасла его от многих лишений, кормила рагу из свиных ножек и разрешила спать на брезентовой койке в комнате, где писала письма. А вот я не плакал совсем.
Я вышел из дома и направился в кофейню, там я сидел и пил чашку за чашкой переслащенный кофе. Здесь собирались люди, чтобы поговорить, выкурить трубочку, посмеяться. И, хотя сам я был чужаком, мне нравилась эта атмосфера: она возвращала меня к жизни.
Неожиданно у меня схватило живот. Я нашел отхожее место и опорожнился, и даже этот процесс доставил мне удовольствие: я почувствовал себя очистившимся, словно обрел новое тело.
Большую часть дня я провел, бродя по городу и размышляя, как жить дальше, и к наступлению сумерек ответ был готов.
Я вернулся в Чипсайд. По дороге купил букетик белых фиалок. Купил для Кэтрин, чтобы вложить ей в руки или положить поверх свежей раны, но потом и сами цветы, и желание возложить их на тело стали казаться фальшивыми, и я выбросил цветы в канаву.
Кэтрин похоронили на кладбище при церкви св. Элфейджа.[68]
Я отослал Опекунам письмо, где, в частности, писал: «Теперь, уснув вечным сном, она наконец отдохнет», потом, правда, пожалел, что высказался столь сентиментально.
Тогда же я принес клятву. Я поклялся никогда больше не действовать, исходя из жалости. Теперь я понимал, что моя «помощь» Кэтрин не была (как я думал) бескорыстной — я просто старался помочь своей мелкой душонке.
В ночь после похорон два матроса с корабля «Король Яков» постучались в дверь нашего дома. Они хотели, чтобы Фрэнсис Элизабет написала от их имени письмо герцогу Йоркскому с просьбой заплатить им жалованье. Я сказал, что она не сможет этого сделать, потому что «только сегодня похоронила дочь», но я могу им помочь. Поблагодарив, они попросили рассказать герцогу об их лишениях и голодном существовании не «больше, чем в шести строчках, — только на это, сэр, у нас хватит денег».
Я пошел в комнату, где обычно писали письма, и там обнаружил Финна — он натягивал на деревянную раму украденный из театра холст. На нем что-то было уже нарисовано — кажется, небольшая часть замка или башни.
— Что это, Робин? — спросил я. — Фундамент твоей новой жизни?
— Вот именно, — ответил он. — Ведь поверх этой мазни я собираюсь написать твой портрет, а он, как ты предсказываешь, станет для меня началом новой жизни.
Натянув холст, он прислонил его к книгам на том самом столе, где я сочинял письмо матросам, — на бумагу упала квадратная тень. Это вызвало мое раздражение, но я промолчал и только глядел, как Финн берет кисть, палитру и наносит белый мазок на холст. Еще немного — и он уже методично замазывает замок. Видя, как белый цвет становится как бы прелюдией к моему портрету, я вспомнил то, о чем давно не думал: в безумии Кэтрин говорила, что видит на мне белое «дуновение смерти». Холодок пробежал по моей спине, но я постарался выбросить посторонние мысли из головы и сосредоточился на письме. Изящным, аккуратным почерком, каким всегда писал письма королю, я вывел на бумаге: «Если Англия не помнит тех, кто сражался за нее, и не заботится о них, что тогда будет с ними и с Англией? Обоих ждет тяжкая болезнь».
Эпистолярное настроение меня не покидало, поэтому я снова взял в руку перо и стал писать Уиллу Гейтсу. В письме я рассказал обо всех последних событиях и просил, чтобы кто-нибудь из слуг доставил мне в Лондон мою лошадь. Думая о Плясунье, я изумлялся, как такое резвое и прекрасное существо может все еще принадлежать мне.
Прошло несколько недель, и на белом холсте стал вырисовываться (как лицо, проступающее из норфолкского тумана) мой портрет. На нем я выглядел человеком серьезным, вроде судьи или библиотекаря, в глазах был внутренний свет. Финн хотел назвать картину «Врач», скрыв мое имя, ия не возражал против анонимности. Единственным неудобством было то, что приходилось в течение нескольких часов сидеть неподвижно и держать одну руку в застывшем положении — якобы вынимая скальпель из футляра с хирургическими инструментами.
Я придирчиво осматривал портрет: нет ли в нем вымысла и фальши? Но ничего подобного не было, и это меня радовало. Позади меня не развертывались утопические картины — фоном служили обычные темные панели. Я поздравил Финна, сказав, что это его лучшая работа, и увидел, как он расплылся в глупейшей улыбке.
Во время работы над портретом мы предпринимали попытки покинуть дом в Чипсайде, я искренне хотел этого: мне тяжело было спать на кровати, где умерла Кэтрин. Но Фрэнсис Элизабет при очередном упоминании о нашем уходе тут же заливалась слезами, умоляла остаться, и я обещал не уезжать раньше лета. Я подозревал, что Финн задержится на более длительный срок: ему приглянулась комната, в которой он спал, а теперь еще и работал над портретом. Фрэнсис Элизабет пришлось переселиться со своими письмами в маленькую гостиную. Но вдова не была в обиде, она пошла бы на любые жертвы, лишь бы не остаться одной.
В конце весны портрет был закончен, и на той же неделе ко мне доставили Плясунью.
Меня глубоко взволновали оба эти события.
Я не льстил бедняге Робину, когда хвалил его картину. В ней, выдержанной в спокойных, темных тонах, не было ничего кричащего. Однако лицо Врача, освещенное водянисто-холодным светом, говорило о раздирающих его противоречиях: любовь к профессии боролась со страхом перед тем, что она может ему открыть.
За портрет я дал Финну семь шиллингов — десятую часть того, что заплатил бы ему богатый человек, но это было почти все, что у меня осталось после того, как я расплатился со слугой, доставившим Плясунью, и отложил кое-что на место для нее в конюшне и на овес.
Лошадь была в отличной форме. Ее круп лоснился. Натертые мылом седло и уздечка были до блеска отполированы, а в приседельном мешке лежало письмо от Уилла. Он писал:
Дорогой сэр Роберт!
Ваше письмо доставило мне большую радость. Как приятно знать, что Вы в Лондоне, где Господь хранит Вас от чумы.
Вашу кобылу по моему приказу доставит младший слуга. Она не застаивалась в конюшне, каждый день хоть немного, но бегала, кормили ее отменным сеном, так что не беспокойтесь: мы о ней не забывали.
Сообщаю Вам, эта ужасная чума добралась и до Норвича, что по всем статьям плохо. Единственное утешение: как только запахло жареным, виконт де Конфолен быстренько укатил во Францию — только его и видели, это совсем неплохо, а очень даже хорошо. И я, и Кэттлбери, мы оба терпеть его не могли. Молюсь, чтобы он не вернулся.
Мы рады, что Вы живы, и шлем наши добрые пожелания малютке Маргарет — это имя очень любят в моей семье, как, полагаю, и во всем Норфолке.
Ваш покорный слуга
Уильям Гейтс.Прочитав письмо Уилла, я, как обычно, испытал к нему прилив добрых чувств и непроизвольно вспомнил беспечную жизнь в Биднолде, непременной частью которой он являлся. Мне не терпелось поскорее сесть на лошадь и вспомнить, что это такое — ездить по улицам, а не ковылять по уши в грязи на своих двоих.
Первым делом я поехал на Шу-Лейн, в мастерскую гравера, мимо которой часто проходил, когда жил на Ладгейт-Хилл. Там я попросил сделать латунную табличку и выгравировать на ней: Р. Меривел. Терапевт. Хирург.