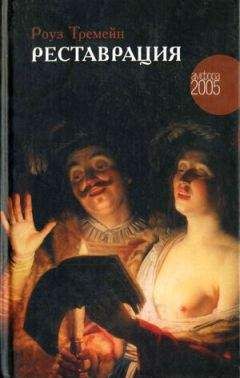Прочитав письмо Уилла, я, как обычно, испытал к нему прилив добрых чувств и непроизвольно вспомнил беспечную жизнь в Биднолде, непременной частью которой он являлся. Мне не терпелось поскорее сесть на лошадь и вспомнить, что это такое — ездить по улицам, а не ковылять по уши в грязи на своих двоих.
Первым делом я поехал на Шу-Лейн, в мастерскую гравера, мимо которой часто проходил, когда жил на Ладгейт-Хилл. Там я попросил сделать латунную табличку и выгравировать на ней: Р. Меривел. Терапевт. Хирург.
Затем я снова сел на лошадь, развернулся и двинулся легкой рысью. Не меняя аллюра, проехал Блэкфрайерс, пересек реку по Саутуоркскому мосту и довольно быстро оказался у дома Рози Пьерпойнт.
Не стану отрицать: все, что произошло потом, было очень приятно. Если раньше я думал, что утрата других, более дорогих для меня вещей уничтожит желание, которое я испытывал к Рози, то теперь знал: несмотря ни на что, его живительное пламя никогда не затухало.
Я сильно исхудал на квакерской пище и вдовьем рационе, Рози же, напротив, расцвела и раздобрела, очаровательные ямочки над ее ягодицами углубились, а когда она смеялась, у нее обозначался второй подбородок. Все это приводило меня в восхищение.
Она рассказала, что с приходом в Лондон чумы все «просто помешались на стирке, требуя, чтобы наволочки кипятились в лавандовой воде», — словом, она не помнит, чтобы когда-нибудь ее дело «так процветало».
Рози уже не сидела на рыбе и хлебе — она позволяла себе покупать цыплят и мясные пироги в кулинарии и сливки в молочной. Она много работала и теперь могла себя побаловать. У нее было твердое убеждение, что тепло в доме, котлы с ароматизированной водой и хорошая еда уберегут ее от чумы: «от этой болезни гибнут те, кто живет в голоде и в холоде, а не такие, как я, сэр Роберт».
Мы провели в постели весь день, я посвятил ее в свой план: обосноваться в городе, вернуться к медицине и зарабатывать на жизнь как терапевт и хирург. Рози села в постели, оперлась на локоть, погладила полной маленькой ручкой веснушки на моем животе и сказала: «Значит, все будет как раньше, пока ты не перебрался в Уайтхолл». Мне не хотелось с ней спорить, я кивнул, соглашаясь, и прибавил: «Вот именно. Как будто не было всех этих лет».
Я уехал от Рози вечером. Целуя меня на прощание влажными губами, она сказала, что король уже вернулся в Лондон. «Берегись попадаться ему на глаза, — прибавила она с улыбкой, — ты ведь не хочешь, чтобы твоя жизнь шла по кругу».
Я не попадался ему на глаза. Конечно, не попадался.
Взяв взаймы два шиллинга и девять пенсов у Фрэнсис Элизабет, я заплатил за латунную табличку со своим именем и родом занятий и прибил на дверь ниже ее собственной: «Пишу письма».
С приходом лета чума резко пошла на убыль, и люди, поверив, что болезнь больше не вернется, перестали презирать врачей. Поэтому хронически больные люди и люди, получившие травмы, из Чипсайда и его окрестностей стали ходить ко мне — некоторых направлял мой давний друг аптекарь, кое-кто приходил, прочитав табличку, а другие, услышав обо мне в кофейне или таверне, где быстро распространяются слухи и сплетни.
Чаще всего родственники или соседи вызывали меня к больным на дом, но некоторые, несмотря на раны или плохое самочувствие, приходили сами. Принимать и лечить пациентов я мог только в маленькой гостиной, которая иногда превращалась даже в операционную, подобную тем, что были у нас в «Уитлси», так что Фрэнсис Элизабет, вначале изгнанная Финном из своей рабочей комнаты, теперь лишилась и гостиной. Но и тогда она не упрекнула меня. Купила небольшой письменный стол, поставила его в своей спальне и стала писать письма там; ее почерк и стиль становились все более изящными, она постепенно обретала уверенность и меньше боялась одиночества.
Как и в прежние времена, я навещал Рози по вторникам, нас обоих устраивало такое положение вещей, никто из нас не хотел большего. Денег я ей больше не давал, зато всегда приносит что-нибудь съестное: выпотрошенного каплуна, кувшин с мелко нарубленными восточными сладостями, кружок сбитого масла. Иногда мы устраивали легкий ужин вдвоем и, сидя за столом у раскрытого окна, слушали шум реки.
— Жизнь снова начинает бурлить, — сказала Рози как-то вечером.
Да, жизнь налаживалась. Казалось, Лондон решил смехом прогнать смерть. В кофейнях Финну встречалось немало людей, готовых платить двадцать или даже тридцать шиллингов за портрет, — они снова поверили, что у них есть будущее, и даже задумывались о том времени, когда эти портреты будут висеть в домах их внуков, домах более богатых, чем те, в которых могли позволить себе жить они. Заказчики стали приходить в наш дом один за другим — торговцы, адвокаты, учителя, галантерейщики, краснодеревщики, клерки — и садились туда, где раньше сидел я, подле опустевших чернильниц в кабинете, и Финн увековечивал их на украденных холстах. Я видел, как они уходили с готовыми портретами, их грубые черты тогда смягчались — так радостно было нести в руках собственное изображение. Потом пошла вторая волна: бывшие заказчики присылали своих жен, чтобы повесить по другую сторону камина парный портрет. Когда Финн увидел необратимость этого процесса, к нему вернулась его былая жадность, и он стал просить за картину тридцать пять шиллингов, потом перешел на сорок, а вскоре и на сорок пять.
Вернувшись как-то во вторник вечером домой, я увидел на дверях третью табличку: Илайес Финн. Художник. Пишу портреты влиятельных людей. Сам Финн, одетый с головы до ног во все новое, пил в доме аликанте с Фрэнсис Элизабет. Вся его одежда, кроме рубашки и туфель, была зеленого цвета. «Ага, — сказал я, — вижу, ты вернулся из Шервудского леса». Улыбка чуть раздвинула его губы, словно говоря: «Время для таких шуточек прошло, Меривел».
Должен сказать, что летом 1666 года я впервые за долгое время получал удовлетворение от своей жизни, словно мы вновь шагали с ней в ногу. В старости я буду вспоминать Время Трех Табличек на Дверях.
Но потом наступило одно июньское утро, и после него удовлетворение оставило меня.
Было воскресенье. Я рано проснулся, выглянул из окна и увидел, что солнце еще не встало. Неожиданно (не могу понять почему) меня охватило желание увидеть восход над рекой, такого я давно уже не лицезрел.
Я оделся, спустился по лестнице и вышел на улицу. Улицы были пустынны. Колокол на церкви св. Элфейджа прозвонил четыре раза. Было прохладно, почти холодно, и я подумал, что, возможно, восход солнца не будет сегодня хорошо виден. Однако продолжал идти. Оказавшись у воды, я сел на ступени причала там, где с лодок и барок высаживаются пассажиры, и стал ждать. Над рекой повис белесый туман — такой плотный, что противоположного берега не было видно.
Небо постепенно светлело, теперь я видел, что оно не затянуто облаками, и, если б не туман, восход был бы таким же лучезарным, как те, что я наблюдал из окна своей комнаты в Уайтхолле.
Я засмотрелся на туман или думал, что засмотрелся, и вдруг обнаружил, что сам сижу посреди густого тумана: ни ступенек, ни пришвартованных лодок, ни меня самого нельзя было разглядеть. Я поднял глаза: небо тоже скрылось. И все же я не спешил подняться со ступеней. И даже не пошевелился. Я знал: что-то должно случиться. Казалось, время остановилось или задержало дыхание.
Я ждал. Сердце мое отчаянно колотилось. Небо вновь посветлело. Мне стало зябко, и я обхватил себя руками. Вдруг я услышал шум весел приближающейся лодки, вода заплескалась у моих ног, набегая на ступени.
Туман поднимался выше. Как только солнце показалось над крышами домов, туман над водой стал рассеиваться.
Тогда я понял, чего я ждал.
Он сидел спиной ко мне. Лодка шла против течения, и солнце, освещая реку, ярко вспыхивало на драгоценных камнях, украшавших рукав его камзола.
Лодка поравнялась со ступенями. Теперь он был так близко от меня, что я слышал его дыхание. Я прикрыл лицо ладонью с растопыренными пальцами, чтоб не быть узнанным, но в этом не было нужды: он смотрел не в мою сторону, а на дорожку за кормой — сейчас она сверкала в солнечных лучах.
Лодка прошла мимо меня — я не отрывал от него глаз. И следил за ним сквозь пальцы, пока лодка не достигла излучины реки и не скрылась из виду.
Глава двадцать четвертая
Жена галантерейщика
Как я уже говорил, моя жизнь вплоть до этого июньского утра была обыкновенной, размеренной, трудовой жизнью, и она вполне устраивала меня. Думаю, если б Пирс, а не его Молчание были в то время рядом со мной, я мог бы поехать с дорогим другом на рыбалку и теперь вести себя как настоящий рыболов, а не отпугивать форель.
Но с того момента, как я мельком увидел короля на реке, ко мне опять вернулось глупое желание видеть его, снова удостоиться его расположения, оно овладело мною с такой силой, что я совсем утратил покой. Я стал груб с пациентами. За едой угрюмо молчал. Да и вторники уже не приносили мне прежней радости. Теперь, вместо того чтобы идти в кофейню или в таверну, пить вино и болтать, я предпочитал прогулки в одиночестве — шел к реке, садился на то место, где сидел июньским утром, и пожирал глазами водное пространство в надежде увидеть ту самую лодку. Мысленно я сочинял бесконечные варианты письма, в котором рассказывал королю, что приношу людям пользу.