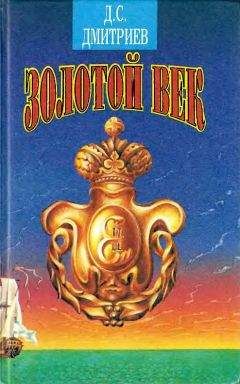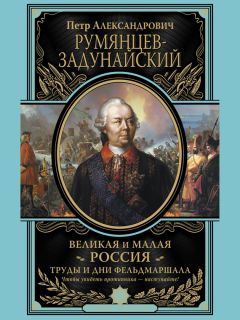Ретив был конь у Васюка, не поймать бы его ни за что, если бы конь не оступился и не полетел в овраг, находившийся около дороги, увлекая за собой и лихого наездника.
Погоня подоспела; Васюка вытащили из-под коня, который сломал себе одну ногу; молодой казак принужден был покориться силе и был связан; казаки неохотно это сделали, — они любили Васюка и не верили, чтобы он был вором.
— Васюк не вор, им никогда он не был; не падок он до чужого добра, потому у Васюка своего немало… Может, он и вор — только женской чести… Царь, видно, застал его у своей жены-красотки и, чтобы скрыть от нас, казаков, свой стыд, вором его назвал, — так рассудил один старый казак, находившийся в числе других в погоне за Васюком.
Скрутили и повели беднягу Васюка на суд к Пугачеву.
А у того короток был суд: «до утра держать под замком в сарае, а утром повесить».
Емелька Пугачев не хотел постыдной огласки, что у его молодой жены есть полюбовник, спешил отделаться от Васюка… и едва только стало рассветать, как лихой казак-бо-гатырь был повешен на перекладине ворот того дома, в котором жила «царица» Устинья Петровна.
Из окон Устиньиной горницы видно было, как с петлей на шее болтался ее «милый, сердечный друг Васильюшка» с искаженным от страшной смерти лицом.
По поводу этой казни между казаками, как уже сказали, был сильный ропот:
— Уж больно крут стал царь.
— И не говори, так рвет и мечет!
— Нашего брата-казака стал вешать без суда и разбора.
— У него короткий суд…
— Разве это суд!
— Надо, братья-казачество, маленько поукротить царя-то…
— Известно надо…
— Из-за бабы казака повесил…
— Василько в воровстве царь обличил.
— Какое в воровстве… Станет Василько воровать… К Устинье Петровне он в горницу залез… Вот царь-то и озлобился на Васильку.
— За это дело всяк муж озлобится.
— Не женись на молодой девке…
— Устинья — огонь девка!..
— Сказывали царю, не женись, не послушал.
— И пусть теперь на себя пеняет.
— А что он с своей «царицей-то» сделал?
— Известно, по головке не погладил…
— Сказывают, бил ее долго и больно…
— Хорошо, что не убил совсем.
— И убьет, если попадет ему под сердитую руку. И тестя своего, «министра двора», говорят, царь так лупцевал плетью, что, слышь, слег старик.
— Какой он царь! — вступил в разговор с своими товарищами один старый казак.
— А кто же он?
— Иль не знаете? Если не знаете, то скоро узнаете! — проговорив как-то таинственно эти слова, старый казак умолк и замешался в толпу казаков, изъявлявших свое неудовольствие на Пугачева за казнь Васильки.
Появился Пугачев мрачный и злобный; переговаривавшиеся казаки смолкли и разошлись, унося в своих сердцах недружелюбие и недоверие к «императору» Петру Федоровичу.
Пугачев в порыве злобы хотел было убить Устинью, уличив ее в неверности, но раздумал и, не делая огласки, «маленько поучил ее», хоть это ученье «маленькое» уложило Устинью Петровну в постель на целых три месяца.
Теперь она еще более возненавидела своего постылого мужа-самозванца. Досталось от Пугачева и тестю, Петру Кузнецову: необузданный и злобный Емелька до тех пор бил его плетью, пока старик не упал без чувств.
Разделался Пугачев и с другими «чиновными особами», приставленными им для охраны «благоверной царицы» Устиньи Петровны, за то, что они не блюли ее и допустили «вора» влезть в окно ее горницы.
Самозванец поставил к жилищу своей жены новую стражу с приказом, под смертной казнью, за ворота не выпускать «царицу», и ускакал из городка под Оренбург с твердой надеждой взять приступом этот город.
В взволнованном Пугачевым крае дела принимали все более и более худой оборот: ожидали возмущения всего Яицкого края; башкирцы тоже волновались. Пугачев подкупил их старшин, и они стали нападать на русские селения и присоединяться к мятежникам. Служивые калмыки бежали. Другие инородцы, как то: мордва, чуваши и черемисы тоже возмутились и перестали повиноваться правительству.
Нечего говорить про крестьян: они целыми ватагами перебегали к самозванцу Пугачеву.
Губернаторы: оренбургский — Рейнсдорп, казанский — фон Брандт, симбирский — Чичерин и астраханский — Кречетников не знали, что делать, что предпринимать, потому что мятеж становился почти общим во вверенных их управлению губерниях. Они известили государственную военную коллегию о мятеже и просили вспомогательного войска.
Тяжелые обстоятельства того времени благоприятствовали беспорядкам.
Наши войска находились в Турции и в возмутившейся Польше.
Приказано было нескольким ротам и эскадронам из Москвы, Петербурга и Новгорода спешить в Казань. Начальство над этими отрядами поручено было генерал-майору Кару. Но он, видя, что ему не подавить и не одолеть мятежа, оставил армию и уехал в Москву, чем навлек на себя большую немилость государыни. Его заменил Бибиков.
На другой день праздника Рождества Христова, в морозную ночь, Александр Ильич, как уже мы сказали ранее, с большими уполномочиями, данными ему императрицей, прибыл в Казань.
Губернатор фон Брандт и прочие городские власти, а также и местные дворяне встретили Бибикова.
Александр Ильич был мрачен.
— Для чего вы дали Пугачеву так усилиться? Неужели вы не могли совладеть со злодеем вовремя? — как-то невольно вырвалось у него при взгляде на губернатора.
Брандт молчал понуря голову.
Бибиков с губернатором отправились в особую комнату для совещания. Совещались долго, и, когда Брандт уехал, Бибиков вышел к собравшимся властям, к командирам и офицерам, громко проговорил:
— Государи мои, я, право, не знаю, в своем ли уме губернатор или он его потерял. Что у него за план для истребления Пугачева?.. Он советует мне просить защитить границу Казанской губернии и не пропускать самозванца в оную. Да разве Оренбургская и прочие губернии не принадлежат России и государыне? Злодея должно истреблять во всех местах одинаково, и я, при помощи Божией, при вашем содействии, надеюсь подавить смуту и воздать должное злодею-самозванцу.
Эти слова ободрили не одних только присутствующих, но все население города Казани.
Бибиков принялся энергически за свои дела, от этих дел он почти не знал отдыха.
Вот как описывал положение дел Бибиков:
«Наведавшись о всех обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны, так что и описать буде б хотел, не могу; вдруг себя увидел гораздо в худших обстоятельствах и заботах, нежели как сначала в Польше со мною было. Пишу день и ночь, пера из рук не выпуская, делаю все возможное и прошу Господа о помощи. Он один исправить может своею милостию. Правда, поздненько хватились. Войска мои прибывать начали вчера: батальон гренадер и два эскадрона гусар, что я велел везти по почте, прибыли. Но к утушению заразы сего очень мало, а зло таково, что похоже (помнишь) на петербургский пожар, как в разных местах вдруг горело и как было поспевать всюду трудно. Со всем тем с надеждою на Бога буду делать, что только в моей возможности будет. Бедный старик губернатор Брандт так замучен, что насилу уже таскается. Отдаст Богу ответ в пролитой крови и погибели множества людей невинных, кто скоростию перепакостил здешние дела и обнажил от войск. Впрочем, я здоров; только ни пить, ни есть не хочется и сахарные яства на ум не идут. Зло велико, преужасно. Батюшку, милостивого государя, прошу о родительских молитвах, а праведную Евпраксию нередко поминаю. Ух! дурно!»[7]
Администрация края была в плохом состоянии, и в местах, где еще не было бунта, господствовал полнейший беспорядок. Генерал фон Брандт, человек честный, но старый, не мог уследить за злоупотреблениями и удержать своих подчиненных от произвола, нарушения закона и лихоимства.
— Что за причина, — спрашивал его однажды Бибиков, — что вы так нерешительны стали в делах своих и все идет у вас навыворот, нет строгости и никакого взыскания с подчиненных? Я знал вас прежде за человека энергичного и справедливого.
Из сего разговора и немцу трудно было вывернуться, однако же Брандт пытался оправдаться.
— Что же мне делать и кого на места определять? — говорил он. — Все меня обманывают.
— Да вы бы приказали, — заметил Бибиков, — присматривать за порядком хотя бы к своим товарищам.
— Как это можно? — отвечал добродушно Брандт. — Если я сам не поеду по губернии, то и ни один из них не поедет.
Такие порядки были не в одной Казанской губернии, но и в большинстве правительственных учреждений тогдашнего времени. «Воеводы и начальники гражданские, — писал Бибиков князю Вяземскому, — из многих мест от страху удалились, оставя города и свои правления на расхищение злодеям». Коменданты, секретари и прочие деятели покидали свои места и бежали задолго до угрожающей им опасности. Край оставался без правителей, без защиты, и Бибикову приходилось прежде всего вступать в борьбу с чиновниками, борьбу едва ли не более трудную, чем с мятежниками. Не полагаясь на местную администрацию, необходимо было призвать деятелей извне и поручить им создание заново совершенно разрушенного порядка. Бибиков предвидел это еще в Петербурге и потому отправился в Казань с большою свитой, в которой были люди лично ему известные своею энергией и храбростью. Впоследствии в его распоряжение посланы были князья Щербатов и Голицын, полковник Михельсон и командированы полковники, бывшие с ним в Польше и отличившиеся под его начальством. В ожидании их прибытия Бибиков принужден был прибегать к полумерам и за недостатном, главнейшим образом, кавалерии, не мог воспрепятствовать дальнейшему развитию бунта. Последний охватил всю Оренбургскую губернию, и главнейшие города: Оренбург, Яик, Уфа, Кунгур и Челябинск были обложены мятежниками; что происходило в этих пунктах, в Казани ничего не знали. Все инородцы (киргиз-кайсаки, калмыки и башкиры) и большинство рабочих с пермских заводов перешли на сторону самозванца[8].