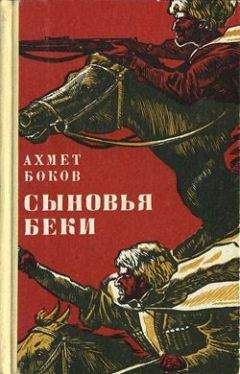Наконец народ заполнил помещичий двор. Все бросились к амбарам.
Хусен увидел Соси с Тарханом и приостановился от удивления: «И эти здесь? Им-то чего не хватает?» Соси наполнял мешки, а Тархан таскал их на арбу.
– И ты тут, Соси? – услышал вдруг Хусен голос Гойберда.
– Может, я, а может, и мой отец. Это не твое дело.
– Что я слышу? И Соси тут! – вступил в разговор Исмаал.
– А почему бы и нет? Что, я хуже других?
– Да ведь пока ты сидишь здесь в амбаре, у тебя у самого все растащат! Думаешь, только Угрома сегодня разоряют? Всем богачам каюк!
– Ты свое береги, за мое добро не болей! – огрызнулся Соси.
– Ну, помни, не говори, что я тебя не предупреждал.
Однако Соси хоть и огрызался, а после этого разговора недолго оставался в амбаре – укатил домой. Видать, и правда испугался. А зря. Люди меньше всего думали о нем.
Саад – вот кто не давал им покоя. Несколько человек даже прямиком после схода пошли к его двору, но и Саад не дремал. Отара его, подгоняемая им самим и его сыном, к тому времени уже успела перевалить через хребет и приближалась к Ачалукам.
Исмаал с Хусеном наполнили арбу, а потом еще заложили ее сзади и спереди двумя полными мешками.
– Ну, Хусен, больше нам здесь делать нечего. Поехали. Теперь сможешь наконец вволю наесться вкусных чапилгов, – сказал Исмаал.
С дороги сошли два человека с мешками на спинах.
– Гойберд, это никак ты? – узнал его Исмаал.
– Я, – ответил идущий впереди.
– Клади свой мешок на арбу.
– Спасибо. Не надо. Как-нибудь доберемся.
– Что значит не надо. Клади.
– Нас двое.
– Да хоть бы и трое.
– Лошадь не потянет.
– Не твоя забота. Клади.
Гойберд и Мажи наконец положили свою кладь и, облегченно вздохнув, распрямили спины.
А лошадь и правда пришлось частенько подгонять.
– Я же говорил, ей будет тяжело, – покачал головой Гойберд.
– Ничего. Она выносливая. Выдержит. Не тащить же на себе эту тяжесть.
Немного помолчав, Исмаал сказал;
– А помнишь наш давний спор с Товмарзой как-то дорогой в поле? Вот оно – настало время, которого мы так долго ждали.
– Отчего же не помнить? Клянусь богом, помню.
– А он, мерзавец, вздумал сопротивляться. Против целого села встал. Но ничего, хорошо ему дали, запомнит надолго.
– Клянусь богом, запомнит, – согласно кивнул Гойберд.
– Они, сторожа-то, думали, что все добро им одним достанется.
– Каковы, а! Неужели так думали?
– Конечно. Угром-то сбежал.
– Жаль, упустили змею. Он и лошадей, говорят, с собой увел.
– Ничего, зато земля нам осталась. Уж теперь-то мы на ней задаром пахать будем.
– Слава богу, – вздохнул Гойберд. – Вот только лошаденку бы заиметь, хоть десятину весной вспахал бы. Я сегодня рассчитывал раздобыть одну. Но конюшня оказалась пустой.
– Хусен тоже все туда рвался. Да я удержал его. Выходит, хорошо сделал. А то но было бы у него ни коня, ни зерна.
– У них-то хоть плохонькая, да есть, а у меня и такой ведь нет.
Гойберд помолчал, потом вдруг спросил, обращаясь к Хусену:
– А чего это ты на своей арбе не приехал?
– Нани не позволила. Легла перед воротами – и все тут, не хотела меня отпускать.
– Ничего, – успокоил Исмаал, – нам хватит и того, что набрали. Поделим поровну.
Хусен хотел еще раз съездить в поместье, но, вспомнив, что там творилось, передумал: едва ли осталось хоть зернышко, все уж, наверно, давно разобрали. Да и Кайпа, конечно, воспротивилась:
– Хватит, сынок, и того, что привез. Не жадничай. У нас сроду зерна столько не было, с тех самых пор, как я вошла в этот дом.
От радости Кайпе не сиделось на месте. Она то и дело подходила к углу, где была ссыпана пшеница, и долго молча смотрела на нее. А как-то сказала:
– Неужели все это останется у нас, никто не отберет?
– Почему же не останется?
– А вдруг У гром вернется…
– Да пусть хоть сейчас возвращается! Только едва ли он рискнет.
…Помещичье добро тем временем растащили дотла. Остались только дом, сараи да амбары. Народ думал-гадал, что с ними делать.
– Надо поджечь, – предложил кто-то.
– Пепел по ветру развеять, чтоб духу не осталось, – добавил другой.
Поднялся спор.
– Это неправильно.
– Почему неправильно? В России, говорят, все поместья разгромили и сожгли!
– Не везде так.
– Да хоть бы и везде, а мы не будем жечь. Нам же, может, и пригодится. Да и жалко такие постройки уничтожать.
– А мне не жалко! – крикнул хромой Эса. – Клянусь могилой отца, у меня нутро переворачивается, когда смотрю на все это! Чего их жалеть?
– Правильно говорит Эса. Сжечь – и делу конец! Тогда уж Угром точно не вернется.
– Верно, нечего тянуть. Какая же это революция, если помещичья усадьба останется стоять, как стояла, и будет вечно напоминать нам все горькие дни?!
– Стереть с лица земли! Мы сами строили все это. За гривенник да за миску похлебки с зари до зари спины гнули. Сами и сломаем!
– Правильно! Громи!
Подоспевший Исмаал уговаривал не трогать постройки: вдруг, мол, самим пригодятся. Но его не послушали.
– Нам понадобится – лучше этого построим, к тому же у себя в селе. Давай разбирай!
И пошла работа. Всю ночь арбы возили в село бревна, балки, черепицу, железо – короче, все, что осталось от построек.
На второй день делили овец, но тут все делалось порядком, не как с пшеницей. Несколько человек, из тех, что постарше, взялись за дело: раздавали овец – побольше тем, кто многосемейный и победнее. И если к пшенице подобрались и некоторые из зажиточных, то к овцам их не подпустили.
Двенадцать овец теперь у Хусена. Он уже стал подумывать о том, чтобы породниться с Соси. Есть и лошадь, и пшеница. Ничего не пожалел бы Хусен, лишь бы Эсет вошла в его дом.
С полудня крутится парень у плетня, все надеется увидеть Эсет, но тщетно. Для виду разок-другой громко прикрикнул на овец, чтобы Эсет услыхала.
Но вот наконец она подошла. Глаза девушки наполнились слезами, когда Хусен рассказал ей, что решил посвататься.
– Ничего из этого не выйдет, – с грустью сказала она.
– Почему? – руки Хусена сами собой сжались в кулаки.
– Не отдадут меня за тебя.
В ушах у Эсет по сей день звенит голос матери; «…с вшивым сыном Кайпы!» И потому у нее уже нет никаких надежд.
Хусен увидел, как с ресниц Эсет сорвались крупные градинки-слезинки. И если бы не эти слезы, он уже готов был упрекнуть ее: «Отдали бы, если бы ты этого сама захотела!» А как ей еще захотеть? Она ли не мечтала об этом день и ночь? Да и нельзя ведь ей за другого выходить.
– Не плачь, Эсет! – сказал Хусен.
– Ты не знаешь, как мне тяжело!.. Нани только и думает о Мурзабеке, о том, что из Сурхохи приезжал… Без конца о нем говорит.
– А отец что? – спросил Хусен, едва сдерживая злобу против ее родителей.
– Если нани надумает, он не станет ей возражать. Я слыхала, как он вчера сказал: «Нельзя же нам самим навязываться, Подожди, пока сватов зашлют». Видно, все это – дело нескольких дней… У меня голова кругом идет… Остается только убить себя!..
Сдерживая рыдания, она утирала слезы концом платка.
– Умереть?!
– А что же делать?
У Хусена промелькнуло: «Может, украсть Эсет? Не я первый, не я последний…»
– Ты согласишься сделать то, что я скажу?…
– Я согласна! Говори!..
И тут раздался голос Кабират!
– Дочка, а ну иди сюда!
Эсет вздрогнула, но через минуту успокоилась и крикнула в ответ!
– Иду!
И пошла. Только не прямо к дому, а вдоль плетня, чтобы дать высохнуть глазам.
Хусен еще постоял в огороде, но скоро ушел и он.
Жизнь поставила перед ним сложную задачу. Что делать? Похитить Эсет? Да она и сама пойдет за ним. Но куда он поведет ее, к кому? И что будет потом?…
К вечеру пришел человек и сказал, что Довт зовет Хусена.
Старик лежал в постели. Хусен пожелал ему здоровья.
– Живи и ты долго, – ответил Довт, – в два раза дольше моего.
Лицо и особенно глаза Довта показались Хусену очень грустными.
– Подойди ко мне поближе, – сказал старик. – Что ты там стоишь?
Хусен подошел и тихо спросил:
– Что у тебя болит?
– Э, что бы ни болело, это не беда. Тело ведь – только оболочка. В человеке главное – душа. А мою душу уже в небо зовут.
Хусен похолодел. Он вдруг осознал, как ему дорог этот одинокий старик.
Довт через силу улыбнулся.
– Помнишь? Когда еще я говорил тебе, что настал мой час. Да вот ведь сколько прожил.
Хусен переминался с ноги на ногу, не зная, что сказать Довту, как его утешить.
– А ну, сними-ка ружье, – старик глазами показал на стену. – И патронташ тоже.
Хусен снял.
– Возьми это себе. Мне они больше не нужны. А тебе понадобятся. Все еще только начинается. Царя-то скинули, а корни его глубоко проросли, корчевать надо. Так что оружие пригодится.
Уставшие глядеть на свет глаза старика закрылись, но через минуту-другую он снова открыл их и сказал: