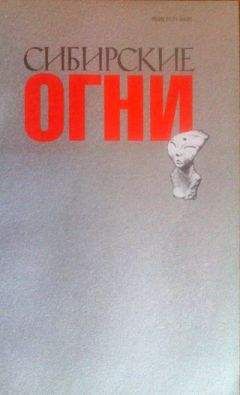— Да мы уж километра два нагуляли, — буркнул я недовольно.
— А ты от меня и десятью не отделаешься. Соскучилась!..
И злиться на нее я больше не мог.
Пошли «просто гулять». Метелица утихла наконец, с неба, смурно вечереющего, сыпался мелкий снежок. Толчея на улицах рассосалась, да и ушли мы от центра в сторону Иртыша.
Маринка расспрашивала меня обо всех знакомых, кто чем живет, что пишет, особенно интересовалась Вовкой Антухом, хотя раньше частенько сцеплялась с ним. О себе говорила мало: вот, ни в науке, дескать, ни в поэзии ничего не добилась, зато дочка — от любимого!.. Обмолвилась, что есть возможность в Америку от «российского бардака» уехать — родня там объявилась, и не очень уж дальняя. «Уже бы уехала, да больно страшно… Нет, просто больно…»
— Погоди, мы и здесь прорвемся! — заверял я ее с не очень-то свойственным мне оптимизмом. Не так давно меня избрали руководить областной писательской организацией, и я успел уже развить кипучую деятельность: издательско-производственный кооператив «Образ» сколотил под «крышей» писательской, дающей, кстати, налоговые послабления, составил даже «тематический план изданий» — на бумаге-то классно все получилось! — сам в бизнесе мало чего понимая, подтянул в единомышленники людей, по их заверениям, опытных, знающих. Вот этим-то и козырял нередко, думая, что всякий должен оценить мою хватку; однако и сам понимал, что все мои «наработки» могут рухнуть в один момент, как карточный домик, потому что живем мы в это странное время, в этой странной непредсказуемой стране…
Вот и Маринка вздохнула:
— Молодец ты, Костя, все-таки. Лишь бы Фортуна задом не повернулась…
Сумерки, сполна набрякнув, настраивали нас на сентиментальный лад. Я уже не жалел, что не поехали мы в гостиницу. Приятно было идти с Маринкой по чужому городу, который все более становился не чуждым, после того как она показывала школу, где училась, скверик, в котором целовалась впервые…
— С Мишкой? — спросил я.
— Да нет! Тогда я его еще не знала.
А на мои расспросы о Резунове отвечала без охоты и кратко: он, оказывается, теперь тоже экстрасенсом заделался, открыл частное малое предприятие «Целитель», стихов давно не пишет, нервный такой стал…
— Ну и дурак, ведь знает, как я его люблю!..
В этой сентиментальной прогулке мы так заболтались, что опоздали на намеченную возле театра встречу с Жорой Бердянским. Он прождал с полчаса, потом проник в театр через «служебный вход», назвавшись местным начинающим драматургом, нашел зальчик, где затянувшийся «драматургический шабаш» завершал обсуждение свежепрочитанной пьесы, наметанным глазом «вычислил» Патронессу (ах, этот не знающий преград Жора!) и вежливо спросил у нее, не знает ли она, где я…
Разгневанная моим беспардонным отсутствием Патронесса выдала ему нечто такое, что Жора постеснялся мне передать. Мы столкнулись, когда он пулей вылетал из «служебного входа».
— А! Нашлись!.. — радостно заорал он, такой же кучеряво-гривастый, как и раньше, разве что еще более лохматый и заполошный после стычки с Патронессой.
Теплая волна ударила меня изнутри: вот здорово, замечательно, обалденно просто, что мы все-таки нашлись в этом полуторамиллионном городе, такие разные и такие родные!
Жора, не теряя времени, повел нас к Анатолию Сорокину, фанатичному, по его словам, любителю поэзии, собирающему регулярно (а чаще стихийно) в своей квартире омскую богему.
Услыхав фамилию историка, я сразу вспомнил, что этот старый сибирский город знаменит не только тем, что когда-то томился здесь в остроге Федор Михайлович Достоевский, не только тем, что творил здесь и дебоширил мой любимый поэт Павел Васильев, убитый чекистами да так и не оцененный пока по-настоящему, не только тем, что грезил здесь «воздушными фрегатами» последний романтик советской поэзии Леонид Мартынов, но и тем еще, что жил здесь когда-то и закатывал свои некогда знаменитые «тридцать три скандала Колчаку» нелепейший Антон Сорокин, именовавший себя «королем сибирских писателей».
Эта несуразная фигура давно интересовала меня. Теперь о нем практически не слыхать, а когда-то… Когда-то он собирал в своем невеликом доме цвет сибирской литературы, всерьез величал себя «делопроизводителем собственной славы» и «кандидатом Нобелевской премии», рассылал свои опубликованные произведения всем здравствующим монархам мира, хотя был всего лишь счетоводом управления Сибирской железной дороги, и ликовал, когда из всех монархов ответил ему однажды император Сиама, любезно сообщивший, что в его империи нет ни одного человека, владеющего русским языком, и только потому, дескать, книга господина Сорокина осталась непрочитанной… И другие у него выкрутасы были, покруче: к примеру, опубликовал в столичном журнале собственный некролог, где сообщалось, что знаменитый писатель Сорокин покончил с собой, выпрыгнув из аэроплана над городом Гамбургом; или — печатал и расклеивал на заборах объявления: «Каждому, прослушавшему десять моих рассказов подряд, выплачиваю керенку, желающие благоволят приходить ко мне на дом. Национальный писатель, гордость культурной Сибири Антон Сорокин».
Вот уж чудак, вот уж у кого прибабахи!.. В диких выходках его увиделись мне однажды и навсегда — тоска одиночества, невостребованная по-настоящему жажда любви…
— Толик на Антона даже внешне похож! — сообщил мне Жора, когда мы поднимались по темной лестнице белокирпичного, «хрущобного», по меткому народному выражению, дома.
Действительно, отворивший нам дверь Анатолий Сорокин имел довольно-таки конторский вид: мелковатые, не врезающиеся в память черты лица, жидковатые, неопределенного цвета волосы, рост ниже среднего… Но в глазах чертовщинка мелькнула, когда заявил:
— У меня тут водка уже забродила, пока вы добирались!
— А пускай еще минут двадцать побродит — крепче будет! — по-свойски сказала Маринка. — Мне тут Костю подлечить надо, у него головка вава.
И уверенно повела меня через зауженный большим книжным стеллажом коридор в одну из комнат «хрущобы», с минимумом мебели и максимумом книг, увешанную на свободных пространствах милыми натюрмортами жены хозяина, профессиональной художницы, как потом выяснилось. Она, хозяйка, худенькая и большеглазая, в этой же комнате одевала дочку дошкольного возраста, собираясь вести ее куда-то. Маринку она чмокнула в щеку, как родственницу или старую подругу, и наказала:
— Ты уж последи тут, чтобы мужики не загудели на всю Ивановскую. А мы с Викулькой у бабушки переночуем.
Спокойно сказала, с улыбкой даже, видно, к всенощным гулянкам мужа притерпелась.
Проводив ее, Маринка закрыла дверь, посадила меня посреди комнатки на шаткий стул, велела зажмурить глаза.
— Руки вперед, пальцы растопырь!.. — командовала она, стоя сзади и делая над моей головой пасы ладонями. — Чувствуешь что-нибудь?
Единственное, что я тогда чувствовал — она меня волнует. И здорово!.. Попытался это волнение заболтать:
— А знаешь, одна полузнакомая целительница у меня вот так же спрашивала. Я человек вежливый, из приличия поддакнул, ну а мы-то с тобой люди свои — врать не стану…
— Ничего, еще почувствуешь… Сперва я твой «компьютер» исследую, а то ты, может, вбил себе в голову черт знает что, мужики ведь такие мнительные! — и, водя ладонями над моей головой (это движение я и впрямь почувствовал), вскоре успокоила: — Так, никакой опухоли у тебя явно нет, а вот сосуды суженные, отложения какие-то… Чистить твою голову надо, чистить!.. За один сеанс мало что мне удастся — там конюшни Авгиевы! — но завтра, даже после пьянки, голова болеть не будет… — говорила Маринка уверенно, со знанием дела. — Так, затылочную часть на первый раз облучила достаточно, теперь со стороны лба попробуем… Руки не опускай, только без глупостей!..
Пальцы мои прикоснулись к тугой Маринкиной груди, но и без ее предупреждения я почуял бы, что не могу, никак не могу, ни ласково погладить эту грудь, ни страстно сжать: табу!..
Вдруг ощутил, как с Маринкиных ладоней мощно льется тепло на грешную голову мою. Еле сдержался, чтоб не заплакать…
«Чистить твою голову надо, чистить!..» — сколько еще раз повторю себе…
Пирушка удалась на славу. В тесноте, да не в обиде разместились мы вшестером на тесной кухне историка Сорокина, где тоже книг было немало — и на холодильнике, и на посудных полках, и на подоконнике… Мы — это, кроме уже обозначенных, еще два Жоркиных дружка, два не столько молодых, сколько по-молодому нахрапистых поэта, гордо, как вериги, несущих бремя непризнанности. Описывать я их не стану, поскольку, при всей своей несхожести, угадывалось в них какое-то чуть ли не близнячество, творческое, интеллектуальное и эмоциональное созвучие, как у помянутых уже мной «братьев Гонкуров».
Разговоры пошли о творчестве, о «скверном времени», которому настоящая — не обличительная и не боевиково-порнографическая — литература оказалась как бы и не нужна, поскольку люди теперь больше куском хлеба и завтрашним днем озабочены, поскольку позакрывались или сели на мель издательства и журналы, и, получив благо писать что вздумается, поэты и прозаики лишились возможности быть услышанными.