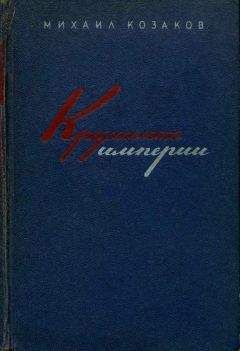А кто пожелает иначе устроиться — тот и поступит по-иному.
При этом Лев Павлович подмигнул и улыбнулся жене, и Софья Даниловна поняла, о ком идет речь.
Но, оказалось, что никто не пожелал устроиться иначе, чем предложил хозяин. Все расположились в его комнате, облюбовав каждый для себя местечко: на тахте, в креслах, на ковровом пуфе, на широком подоконнике, и не покидали карабаевской комнаты добрых два часа, и только Софья Даниловна да Ириша изредка выходили отсюда, призываемые различными домашними заботами.
Послушать штабс-капитана Лютика действительно было интересно. Отбывая службу в Ставке и налаживая работу в одном из отделов управления генерал-квартирмейстера Пустовойтенко, с которым был в личных хороших отношениях, он был в курсе многого, что происходило за последние месяцы там — в скрытом от взоров всех маленьком Могилеве.
К тому же основная профессия Петра Михайловича Лютика до войны (историк-обозреватель и осведомленный журналист прогрессивных изданий) и его природные качества, — он показался Феде умным, немало наблюдательным и решительным человеком, — а также способности хорошего рассказчика, скорей даже опытного лектора, знающего, чем и как можно овладеть вниманием слушателей, да и желание в данном случае последних уделить ему это внимание, — все это удвоило интерес присутствующих к Петру Михайловичу, а Федя, в частности, доволен был, как никто: подумать только, сколько новостей и разных историй увезет он с собой из столицы!
— Мой шеф устроил мне приглашение к высочайшему обеду.
— Ах, это очень забавно, — воскликнула жена Лютика, и ее искрящиеся черные глаза многообещающе посмотрели на присутствующих — она все уже знала наперед в рассказах мужа.
— Я надел защитный китель, снаряжение — без револьвера, шашку, фуражку и коричневую перчатку на левую руку. Ордена не нужно, если нет с мечами, — пояснял штабс-капитан Лютик. — В семь двадцать вечера — точно! — я был в доме царя. Сначала проходите, значит, парных наружных часовых, потом вестибюль, где справа и слева стоят в струнку по два конвойца-казака. Уверяю вас — истуканы! Но вот один из них молча толкает дверь… автоматически как будто вытянувшейся рукой — и вы в передней. Тут скороход и лакей снимают ваше платье. Скороход спрашивает фамилии приходящих, посматривая в список, лежащий на столике. Контроль собственно очень слаб: вместо меня с таким же успехом мог бы пойти другой человек, лишь бы он назвался моей фамилией.
— Вот как?! — неожиданно отозвался из угла Асикритов, и Федя вздрогнул: журналист выпалил то, о чем он сам только что подумал.
— Да, очень просто, господа… Ну-с, у начинающейся тут же лестницы наверх стоит на маленьком коврике (синий такой квадратный коврик…) солдат сводного пехотного полка. Без оружия, — замерз, да и только!.. Зал — во втором этаже: небольшой, оклеен белыми обоями. Портреты Марии Федоровны и Александры, рояль, небольшая бронзовая люстра, простенькие портьеры. Кого я только в тот день не увидел! Тут были великий князь Михаил, великие князья Сергей и Георгий Михайлович — такой, понимаете, обезьянообразный рамоли, сухой, желто-черный, сгорбленный, с палкой…
Петр Михайлович скрючился, вобрал голову в приподнятые плечи, скривил рот, выпятив, нижнюю губу, руки — колесом, растопырил хищно пальцы, — и всем живо представился уродливый, как шимпанзе, великий князь Георгий.
И все одобрительно засмеялись.
— Были тут еще военные атташе союзников. Все они в форме русской армии, кроме японца. Ну, свитские, конечно: флигель-адъютант Мордвинов, адмирал Нилов, Граббе, лейб-медик Боткин. Алексеева не было в тот день: отпросился у царя в Смоленск — женить сына. Стоим группами, разговариваем. Князья — в особой кучке. Вот из столовой Воейков вышел, а за ним тесть — Фредерикс. Ну, и развалина, скажу вам! Так и кажется, господа: вот сейчас его и хватит изнутри! Хватит — он и рассыплется на отдельные части, искусно собранные портным, сапожником и куафером. Ей-богу!.. Царь за ними. Видел я его в Ставке раз пятьдесят, но так близко — не приходилось. В форме гренадерского Эриванского полка, в суконной рубашке защитного цвета, с кожаным нешироким пояском. Длинные брови очень старят его. Вылинял. Породы в нем никакой! Да и не было никогда. Глаза каменные, усы такие… желто-табачные, крестьянские усы, и борода такая же. Нос набряк, как клубень, и улыбка тихого идиотика: как рябь на болоте, когда, бывает, сильный ветер подует… Я стоял шестым из впервые приглашенных. Дошла очередь до меня — представиться: «Ваше императорское величество! Обер-офицер управления генерал-квартирмейстера, штабс-капитан Лютик!» — «С начала войны?» — «Никак нет, ваше императорское величество. С двадцать пятого сентября прошлого года» — «Угу…» — не знает, что сказать. И вдруг: «С пятнадцатого, значит?» — «Так точно, отвечаю, ваше императорское величество». — «Это исконно-русский хороший год. Ах, мне так обещали…» Подал руку мне, рука такая теплая, и передвинулся бочком к следующему за мной. И на ходу уже, с мутной, рассеянной, но злой улыбкой: «Pour etre beau, il faut souffrir!»[16] Ни черта не понял я! Что это означало?! Что за бессмысленный набор слов? Потом уже Михаил Саввич (генерал Пустовойтенко это) разъяснил мне. Оказывается, в прошлом году, в дни наших самых страшных поражений, распутинско-бадмаевский кружок переправил царю через Вырубову и Александру «ободрительную» записку: ничего, мол, не падай духом. А почему не падать духом? А вот почему. Знаменитый «предсказатель судьбы», иностранец Шарль Перрен, живший в Петрограде и принимавший только очень немногих (но, конечно, закадычный друг Бадмаева и «старца» Григория!), предрекает победу России именно в этом году. Видали, а?.. Пятнадцатые годы фатальны, мол, в этом смысле. Вроде карты, которой банкомет всегда выигрывает. Не угодно ли Николаю вспомнить?.. Тут тебе и древняя, передняя, и новейшая русская история… Тысяча пятнадцатый год — образование великого княжества Киевского. Что, событие? Событие! В тот же год следующего века нанесено поражение половцам и болгарам, в триста пятнадцатом — усиление Московского княжества при Данииле. Факт это? Факт… В четыреста пятнадцатом Василий Первый закрепил за собой Суздаль и Нижний Новгород, а Василий Третий в пятьсот пятнадцатом смирил и присоединил Псков. Победа это или нет? Ясно, победа!.. А дальше: в шестьсот пятнадцатом — удачные бои со шведами, в семьсот пятнадцатом Петр укрепляется на берегах Балтийского моря. И все в пятнадцатом, — каково? Вот свора жуликов как подобрала цифры-то!.. И, наконец, тысяча восемьсот пятнадцатый год — год великого торжества русского оружия: избавление Европы от Наполеона… Николай уверовал, а потом огорчился. Огорчился еще и потому, что рекомендованный ему бадмаевский друг, этот самый иностранец Шарль Перрен… арестован нашей военной контрразведкой и выслан в двадцать четыре часа из России по подозрению в германском шпионаже! Вот тебе и «предсказатель прбеды»!
— Омерзительно! — крикнул Лев Павлович и грузно завозился в своем кресле, усаживаясь поудобней.
Он вытер носовым платком лицо свое — дважды, тщательно, как будто желая снять с него вместе с капельками пота и внезапно проступившие на лице желто-багровые горячие пятна от возмущения и беспокойства.
Но он сам не знал сейчас, чем собственно взволнован: рассказом ли приятеля, или тем, что почему-то вспомнился вот в эту минуту смущенный носильщик на Финляндском вокзале, пропажа дневника, вертевшиеся в вагоне после станции Усикирко какие-то чужие люди, среди которых, — он убежден был теперь, — были и подосланные петроградской охранкой. Все это нежданно и болезненно всплыло от чего-то в памяти, покуда Петруша Лютик, штабной офицер, рассказывал очередной печальный анекдот о жизни в Ставке, в армии, и Лев Павлович, разволновавшись уже, не скоро успокоился.
— Лестницу метут сверху! — хрипло выкрикнул он и «с сердцем» бросил на стол портсигар, который до того держал в руках. — Все, что ты рассказываешь, Петруша, — чудовищно, омерзительно! Что ж это? Если так будет продолжаться, страна кончит крахом, смертью.
— Ай, браво, браво, Лев Павлович! — зашевелился на своем месте пучеглазой Асикритов. — Правильно говорите: лестницу метут сверху! Каждый швейцар и дворник это знает. Каждый! И найдутся такие — сметут, начисто сметут. Увидите… скоро, ой, скоро это будет. Оглянется страна, встанет на свои медвежьи лапы и пойдет крошить, ломать все и вся. Вот тогда… тогда мы узнаем ее, поймем. Все полетит, все будет разрушено. Тут уж не помогут никакие думские стратегические вензеля! Покажет Россия кузькину мать, запляшет с дубиной в руках, — пойдет тут такое всенародное очищение… Чай, не так?
— А вы-то… чему радуетесь? — раздраженно буркнул Лев Павлович.
— Я?
— Ну, да — вы! Радоваться нечему, — озлился Лев Павлович.