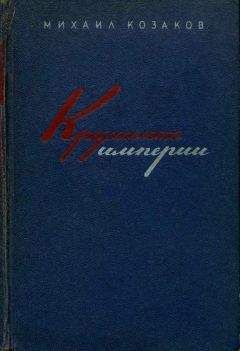— А вы-то… чему радуетесь? — раздраженно буркнул Лев Павлович.
— Я?
— Ну, да — вы! Радоваться нечему, — озлился Лев Павлович.
И опять не знал — почему собственно. Потому ли только, что Фома перебил его, вмешался непрошенно в разговор, или потому, что в тоне, каким говорил журналист, звучало, по мнению Льва Павловича, неприкрытое злорадство. Вероятно, на сей раз — и по той и по другой причине.
— Чему тут радоваться, — а? — воззарился Карабаев исподлобья на Асикритова. — Ну, все полетит, все будет разрушено, — кому ж на пользу? Кайзерскому милитаризму — одному ему! Все самое дорогое и ценное будет признано вздором, тряпками, чепухой. Все — на поругание, так, что ли? На слом, в бездну неизвестности, в окровавленную пасть отчаяния? Так, что ли? Не дай господь революции под ликующий салют прусских пушек!
— Там посмотрим, под чей салют: прусских или русских? — ухмыльнулся Иришин знакомый.
— Ах, папа, ты же сам сказал…
— Что сказал?!
— Про лестницу. Сверху метут… как же иначе?
— Иначе? Что — иначе?
Он, повернув голову к плечу — до отказа, так, что ей некуда и невозможно уже было двигаться, не вывихнув шеи, удивленно и растерянно смотрел на дочь.
Да, он говорил. Гм… «Лестницу надо сверху, да, да». Он не отрекается, он не ошибся, когда сказал. Нет, нет, пусть никто не думает, что он, Карабаев, может отречься от своих слов! Но почему же их нужно толковать так, как сделал это со злорадством Сонин родственник Фома? У него с журналистом никогда не было ничего общего в политических взглядах, — так что же это за союзник неожиданный?! Не нужны такие союзники. Это люди безответственных суждений и мгновенных коротких поступков.
В народе каждый божится, но всяк по-разному, — так и он с Асикритовым.
Подумав так, Лев Павлович понял, что зря опешил от Иринкиного вопроса. Но тут же другая мысль овладела им: «А что, если меня неверно поймут и стану я недостойным в их глазах?.. Сварлив я стал, а ори это неуверенностью моею сочтут?.. Вот Ириша моя, например… молодежь вся. Да и все друзья мои!.. И как иначе действительно поступать, как не очищать все сверху! Отчего же я так рассердился? Ох, нервы, нервы все!»
И он вдруг, протянув руку к стакану с давно остывшим чаем и быстро хлебнув его — так, что замочил густые усы свои, вздохнул устало:
— Эх, дочка, все правы и все виноваты. На то и страна у нас такая!
Ему показалось, что он нашел слова, которые должны примирить всех в этой частной дружеской беседе у него в доме. В самом деле: не открывать же в этой семейно-интимной обстановке «принципиальных» политических споров?! Кому они нужны тут?
«И вот он словно нашел «формулу перехода», — подумал он шутя, — для всех «фракций», заседающих по-семейному у него в кабинете. Разве он тем самым не пошел навстречу Асикритову, — ну, довольна теперь, Ириша?..»
В рядах своей собственной кадетской партии Лев Павлович в последнее время больше склонен был прислушаться к голосам более «радикальных» ее членов, а недавняя поездка за границу и совсем уже утвердила в нем сознание лидера этого крыла партии.
Но и здесь, в этом крыле, которым, как и птичьим, нельзя было партии взмахнуть отдельно, порознь, самостоятельно (об этом, боже упаси, никто и не думал!), Лев Павлович, поддерживая своих товарищей, а часто и руководя ими, следовал все той же своей обычной тактике — никогда не отказываться от примирения.
Таков он был всегда, таким он, в частности, оказался и на последнем закрытом заседании своей партии.
Лев Павлович призывал тогда к искренности, — ах, никто не умел быть столь лиричным в своих выступлениях, как Карабаев!
«Будем откровенны! Пусть каждый из нас выложит все, что думает, все, что знает, все, что тревожит его. Поговорим по душам!» — призывал он, встав со своего места и обращаясь к многочисленным участникам заседания, собравшимся в громадной гостиной — двухсветной, с венецианскими окнами, с малахитовыми каминами и золочеными канделябрами, — в хоромах гостеприимного, известного в столице либерального князя.
«Будем откровенны, — говорил он тогда, подымая высоко, как для клятвы, свою правую руку и после каждой фразы рассекая ребром ладони воздух. — В нашей среде есть много таких, кого пугает призрак революции, лик мятежной пугачевщины, разбойный черный свист анархии. Это страшно, господа, и я пугаюсь, мне страшно за русскую государственность, за ее будущность, за судьбу отравленной ужасами неудачной войны русской души. Мне страшно потому, что наше молодое поколение Сможет оглянуться на нас; с вами… «с усмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом!» Да, это страшно, господа. Но вот эти-то страхи и должны нам теперь диктовать иную политическую тактику, чем та, на непорочности и незыблемости которой настаивал здесь глубокоуважаемый нами всеми и личный друг и партийный водитель Павел Николаевич! Если мы не хотим, чтобы предстоящий, после войны суд народа над преступным правительством принял формы дезорганизации, хаоса, бессмысленного бунта, мы не можем устраниться от народного движения и не можем не стремиться играть в нем важную, руководящую роль. Не сторониться движения кооперативных деятелей и рабочих союзов, а протянуть им руку и повести за собой! Не придерживаться старой тактики, как слепой — стены! Мы должны быть зрячими, и тогда не будет страха!»
Ему аплодировали, и от шума тоненькими переливами звенела хрустальная бахрома княжеских люстр и канделябров, — это так запомнилось Льву Павловичу!
За резолюцию о необходимости сближения с левыми демократическими партиями высказалось сорок шесть участников заседания, воспротивились ей двадцать семь и уклонились заявить свое мнение четырнадцать. По мнению Карабаева, то была большая победа сторонников его речи, хотя резолюцией признавалось необходимым устраивать лишь «на местах» совещания с представителями «демократических партий», и то «в зависимости от выяснения сил и внутренней ценности последних».
Его поздравляли.
Но когда кто-то из провинциальных соратников, ободренный его речью, назвав ее «прекрасным новым кодексом партийного поведения», предложил выйти из августовского «прогрессивного блока», где, как выразился, «на ногах партии тяжелые гири октябристов и шульгинцев» («О, sancta simplicitas!»[17] — шепнул ему насмешливо искушенный в латыни и политике сосед-москвич…), рука Льва Павловича первой протестующе поднялась на виду у всех, чтобы опуститься немедленно вниз косым и быстрым взмахом шашки, без раздумья, гневно рубящей чью-то глупую башку.
«Разве можно бросать спичку в бочку с порохом?!» — воскликнул он в кулуарах, но не все поняли: партия — «бочка», или весь августовский «блок», или что-то другое!
А когда в ответ на неосмотрительный призыв съезда городов (в котором участвовал Карабаев) требовать «ответственного министерства» голосовали в громадной княжеской гостиной решение партии и порешили согласиться на «министерство, пользующееся доверием страны» («Синицу в руки, чем журавля в небе!» — рассудительно подсказал и напомнил своим друзьям либеральный князь давнюю народную поговорку), — Карабаев и вовсе не поднял своей руки. Он просто не желал огорчить кого бы то ни было из сидевших здесь партийных единомышленников и приятелей, хотя не прочь был бы узнать, что страна получила, наконец, министров, ответственных в полной мере перед ее представителями, то есть в том числе и перед ним самим.
«Что же вы так, Лев Павлович?..» — спрашивали его сторонники разных течений, разных крыльев, укоризненно покачивая головой от плеча к плечу.
И тогда, как и сейчас: отвечая своей дочке Ирише, он сказал вдруг:
— Ах, господа, все правы и все виноваты. На то и страна у нас такая!
И тогда, как и сейчас, он обескуражил и покорил всех усталым и примиряющим вздохом, вылетевшим словно из настежь разверзнутой груди.
Никто не был столь лиричен, как знаменитый думский депутат буржуазии Карабаев. Ах, ни у кого не было таких вдумчивых и тоскливых серых глаз!
…Птица может лететь, расправив оба своих крыла и взмахнув ими одновременно.
…Ну, о чем тут спорить, люди добрые?!
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
«Это детская сказка, приноровленная к уровню политическим младенцев»
Спустя несколько месяцев по возвращении Карабаева из-за границы к Льву Павловичу зашел Асикритов.
Как всегда, подмигивая (пучеглазый чертик!), он положил на стол какую-то газету необычного формата и шрифта и, ухмыляясь, сказал:
— Нокаут. Всему думскому словоблудию — нокаут.
— Не понимаю, Фома Матвеевич, — вопросительно посмотрел на него Карабаев, привыкший уже к неожиданным и «странным» суждениям и известиям своего родственничка.
— На обе лопатки. И вас вместе с вашим Павлом Николаевичем Милюковым, и правительство, и всех своих партийных противников, — всех на обе лопатки!.. Знаете, чья тут статья? — ткнул в газету пальцем журналист. — Ленина! Небось слыхал про такого?