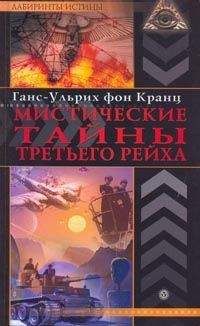И снова взял кружку, отпил большой глоток. Гости непонимающе переглянулись: когда барон успел все это сказать — ведь они тоже там были? Но потом встревожились. Лаукова — недаром близко к эстонцу была — высказалась за всех:
— Ох ты! Ну и грозный же! Еще не огляделся по-настоящему, а уж и каретником стращает. А с виду такой ласковый, совсем не подумаешь.
— Ум у тебя короткий, нечего тебе думать. Когда старый барон был, вы шептались: «Грозный, грозный». От этого орать станете. Видели у него два мешка в телеге? А что в них, знаете? Когда одежонку на спине закатают, небось узнаете. Это вам не черемуховые прутья.
Все, несмотря на хмель, поежились, точно на своей спине уже почувствовали эти удары. Смилтниек так угодливо изогнулся, что чуть носом не ткнулся в стол.
— Вы уж постойте за нас, барин, вы же всегда такой добрый были.
Эстонец довольно погладил бороду.
— Ну, ежели вы сами не будете подлецами… Добрым я, пожалуй, не был, но справедливым — это да! Если кому порка и доставалась, так уж он знает за что и не обижается. Вот хоть тот же Падегов Крипт — уже на ногах, на свадьбу пришел, плясать собирается. Так и надо, барон любит веселых людей, с жалобами да причитаньями чтоб на глаза ему не попадались. Если вы не будете подлецами, так и от меня худа не будет, я всегда за мужиков стоял. Да разве же я гонял бы вас по кирпичи, ежели бы мне не приказали? Зернышка не брал с вас без строгого наказа.
Он поднялся, крепко захмелевший. В другое время у него в таких случаях появлялась пугающая улыбка и трость в руке так и взлетала. Но сегодня он держался иначе. Воображению его все время рисовался Холодкевич.
Сегодня эстонец хотел быть в дружбе со всеми, поэтому подсел и к Майиной родне. Тут не оказалось ни одного, кто попытался бы подластиться, даже такого, с кем можно было бы потолковать по душам. Эстонец хорошо заметил, что роль Холодкевича совсем не так проста и легка, по крайней мере для первого раза. Но он подавлял злость и не отступался. Добродушно потягивал пиво и водку, и здесь поговорил про сено и рожь, и здесь поглядел на небо, по которому уже плыла побагровевшая луна, обещающая дождь яровым. Рассказал о суровости молодого барона и его распоряжениях и о своей готовности стоять за людей, ежели только они сами не будут подлецами. Грантсгал, сидевший рядом, угрюмо нахохлился, остальные понурились, слова от них нельзя было добиться. Постепенно он из Холодкевича снова превратился в того же самого прежнего Холгрена и поднялся из-за стола, чтобы не испортить то, чему положено такое хорошее начало.
— Сидите вы тут, точно не на свадьбе, а на поминках. Разве вам пить-есть не хватает? Господским добром брезговать — вот вы как?! Барон любит веселых людей, а вы, как куры, носами клюете. Я понимаю, насквозь вас вижу: Майя у вас всех на уме. А я что могу поделать? Разве же я по своей прихоти приказал ее обвенчать с Тенисом? Я вас согнал в имение? Разве я ее оставляю на первую ночь? Кто я такой? Такой же холоп, как и вы. Теперь у вас есть барон, он и приказывает. У него закон, у него права, он хочет повеселиться и милостиво дозволяет повеселиться и вам. Ешьте, пейте и пойте, так чтобы леса заходили ходуном!
Но никто даже и не пытался запевать, недоброе предчувствие приглушило даже недавний пьяный говор. И у Лауков стало потише, женщины перешептывались, сдвинув головы. Красотка Мильда, прихрамывая, обходила столы с плетенкой лепешек, то там, то сям останавливалась, нагибалась и прислушивалась к разговорам.
Музыка тоже притихла. Плясуны шумели и дурачились, бродя перед замком. Девки покрасивее исчезли, парни без них не знали, что и делать. У Холгрена, проходящего через толпу, появилась привычная улыбка, рука так и чесалась: расскакались, что телки, впервые выпущенные на выгон! Но он все-таки сдержался, обогнул Эку и вошел в зал.
Все было устроено, как у Холодкевича в Лауберне. Только зал поменьше и потолок куда ниже; трещавшие свечи горели тускло, девки, точно овцы, сбились в кружок, глядя широко раскрытыми осоловелыми глазами. Среди девок суетилась Грета, без толку честя и расшевеливая их. В другом углу топтались музыканты, выжидая, что им прикажут. Писарь и рижские мастера не слишком заглядывались на девок, но зато сразу видно было, что яствами, которыми заставлен стол, они пренебрегать не станут. Холгрен уселся с краю, рядом с креслом для барона, увитым зеленью, и злобно покосился на них. Нехотя отведал закусок, но не произнес ни слова. Всем становилось как-то не по себе, один за другим они поглядывали на дверь.
Грета приказала девушкам запевать — надо же проверить, как оно получится, когда появится барон. Но получалось очень неважно. Какое там пенье, скорее уж это можно было назвать воем. Рты раскрывались неохотно, звуки даже до этого низкого потолка не хотели взлетать, ни одно окно не зазвенело. Писарь оскалил желтые корешки зубов, толстый мастер расправил бороду на обе стороны, подоткнув к ушам, и повернулся к певуньям спиной.
— Визжат, как поросята. Тиролек надо было привезти из погребка Шмидта у ратуши, вот это были бы пе-есни!
А второй мастер, тощий, длинный, с бородкой клинышком на самом кончике подбородка, больше напоминавший портного, чем каменных дел мастера, зажмурился и, в такт покачивая головой, стал напевать какую-то хорошо запомнившуюся ему мелодию. Холгрен сидел, насупив брови. Он был зол на себя за то, что сам не подумал о тирольках, а также об этой троице, вид которой недвусмысленно показывал, что о подобном пении барон ничего хорошего не скажет.
Песня оборвалась. Грета не знала, приказывать ли заводить новую. Холгрен махнул рукой и дал знак музыкантам. Петь эти свиньи не умеют, так хоть поглядеть, как будет с танцами.
И с танцами не получалось. Девушки вскидывали ногами, взмахивали руками, выгибали фигуры — все было как обычно, не было только самого главного. Того, что захватывает самих пляшущих и зажигает зрителей, увлекая их пламенным вихрем танца. Холгрен вгляделся внимательнее. Сами по себе танненгофские девки ничуть не хуже лаубернских. Грета знала, кого выбрать. Рукава рубах и передники еще белее, чем у тех. Но наряды победнее, сразу видно, что отовсюду собраны, много раз стираны, поблекшие и без украшений. Башмаки по кирпичному полу стучали совсем не так, как по дубовому. Некоторые даже в постолах, — они неприятно пошаркивали ими. Косы не описывали красивых кругов в воздухе, ленты не реяли, глаза не загорались, венцы не поблескивали. Лица тупые и равнодушные — нет, это не вакханки, а толпа рабынь, которых только кнут и заставит плясать.
Ладонь Холгрена тяжело грохнула по столу.
— Хватит! Это не пляс, а черт знает что. Небось в другое время умеете так плясать, что юбки взлетают, стены дрожат. Вы упрямиться и не думайте! Молодой барон веселье любит. Всех по очереди в каретник прикажет тащить, шкуру с вас спустит! Пейте! Грета, дай им выпить!
Грета подогнала их к столу, налила вина, сунула стаканы в руки. Но они даже и пить-то не умели. Поднесли стаканы к губам, омочили их и вновь стали оглядываться на самый дальний и темный угол. Только одна молодуха, оставившая, должно быть, ребенка в люльке, выпятила грудь, которая и без того распирала лиф, и, проглотив свою долю одним духом, обвела всех вызывающими глазами и налила еще, — видимо, уже и на дворе изрядно выпила.
Толстый мастер не удержался и, потянувшись, ущипнул ее за ляжку.
— А это вот стоящая. Ягодка, а не баба!
Этого Холгрен не мог допустить. Ладонь его снова грохнула по столу.
— Вы там, попридержите лапы! Это не для вас, здесь все принадлежит господину фон Брюммеру. А ну, убирайтесь, пока целы!
Молодуха, правда, не понимала по-немецки, но почуяла, что речь идет о ней, и показала мелкие белые зубы. Трое нехотя поплелись вон. Вслед за ними, прихрамывая, выскользнула Красотка Мильда.
Ухватив одной рукой Майю за шиворот, Грета другой попыталась влить ей в рот вино. Лицо экономки скривилось от злости и одышки, она только сопела — до чего же она этих молодых да красивых терпеть не могла!
— Пей, сучка ты этакая! Пей, коли велят!
Но Майя с силой оттолкнула ее руку, на белый передник экономки плеснула красная струя. Грета уже замахнулась, чтобы отпустить Майе оплеуху, но тут между ними кинулась старая Лавиза.
— Не тронь ее!
Это была не дурная забава — эстонец всегда с удовольствием глядел, как схватываются бабы. Он засмеялся и поманил Майю к себе. Усталость от всего пережитого за последние сутки, боль и отвращение оставили следы на ее лице и всей фигуре, и все же эстонец не мог оторвать от нее глаз. Они загорелись, язык его скользнул по опушенным бородой губам.
Грета пригнулась к его уху, зашипела:
— Ты мне не облизывайся, как на горшок с медом. Порку этой навознице надобно задать! Ишь, пить не хочет!
Ее немецкий язык наполовину был сдобрен латышским. Майя поняла, покраснела и на шаг отступила. Холгрен оттолкнул экономку и урезонивающе сказал: