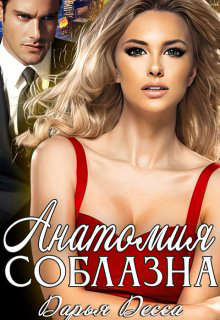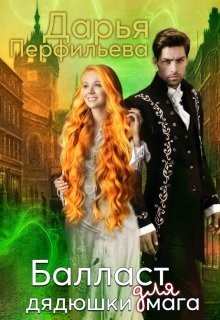Я посмотрел на небо. Оно начало светлеть. Значит, скоро рассвет, и немцы снова попрут в атаку.
Глава 77
Зенитчицы одними из первых вступили в схватку. Их орудия непрерывно били по масштабной карусели, которую защищали от советских истребителей и ПВО «асы Геринга». Только силы были явно не равны: самолетов с красными звездами на крыльях и фюзеляже летало слишком мало, а потом их и оттеснили за Волгу. Лишь изредка теперь в сталинградском небе вспыхивали яростные схватки наших самолетов с немецкими, а ко второй половине дня фашисты полностью захватили господство, и больше никто не мог помешать им творить чёрные дела.
Пока санрота, в которой служила Лёля, пыталась уцелеть во время яростной бомбардировки, основная часть зенитного полка из сил выбивалась, чтобы хоть как-то ослабить налет фашистов. Пушки били без перерыва, громыхая и лишая слуха девушек из орудийной обслуги. Чтобы расслышать друг друга, им приходилось кричать, надрывая голосовые связки. Так, что через час уже почти никто не мог говорить: изъяснялись жестами.
Хотя и говорить-то было, по большому счету, уже нечего: каждая знала свое место, и в эти часы каждый орудийный расчет превратился в единый слаженный механизм, в котором все знали, что нужно делать. И не было таких, кто бы удрал и спрятался в какую-нибудь щель. А было из-за чего.
В какой-то момент на расположение зенитного полка немцы бросили несколько эскадрилий своих истребителей. Решили, что этого будет достаточно: бомбардировщики нужны в городе, который уже полыхал от края до края. И это была ошибка немецких тактиков: зенитчицы встретили «Мессеры» яростным огнем.
Фашистские самолеты с трудом прорывались через плотный огонь: небо над полком оказалось буквально нашпиговано свинцом так, что спустя несколько попыток немцам удалось лишь ранить нескольких девушек – сброшенная бомба рванула неподалеку от одного из орудий, зенитчиц посекло осколками.
Двух сразу отправили в санроту, еще трое остались в строю после перевязки. Умолкнувшее было орудие снова стало громыхать, выплевывая в небо снаряд за снарядом. Вокруг батарей уже громоздились целые кучи стреляных гильз, воняло сгоревшим порохом, сгоревшей краской и перегретым машинным маслом.
Лёля хоть и была санинструктором и служила в санроте, но что она видела за эти несколько недель? Порезы да царапины. Несколько раз гипс помогала накладывать и раны зашивать. Капельницы ставила, уколы делала. Меняла повязки. Но разве это можно было назвать серьезной медициной? Так, забавы. Был ещё тот случай с раненым пехотным майором, но это исключение, – так прежде казалось.
Об этом Лёле сказала Антонина однажды: «Ты, девочка, – заметила она, грустно глядя куда-то вдаль, – не видела еще настоящей крови». «А как же те раны, которые я перевязывала?», – удивилась девушка. «По сравнению с тем, что нам предстоит, поверь, – это все мелкие царапины», – заключила женщина, и в ее голосе Лёля услышала такую печаль, что ей даже стало не по себе.
Трагичные предсказания Антонины сбылись, когда в расположение санроты поступили первые раненые зенитчицы. Потом принесли еще несколько человек из стоявшего неподалеку от их расположения полка добровольцев: на их окопы упало несколько немецких бомб.
Последние фашистские самолеты еще гудели в черном небе над Сталинградом, которое закрыло солнце густой непроницаемой пеленой, а врачам и санинструкторам уже пришлось увидеть – большинству впервые в жизни – жуткие последствия бомбардировки.
Лёля увидела, как срочно в операционную палатку понесли девушку-зенитчицу. Ее рука бессильно свешивалась с носилок, а голова покачивалась при каждом шаге несших ее бойцов. На гимнастерке расплывалась большие бурые пятна, и лицо было мертвенно бледным.
«Господи, как страшно-то», – подумала Лёля, глядя на несчастную девушку, которую спешно унесли в операционную. У выхода осталась другая, которая ее сопровождала. Она стояла, бессильно опустив руки. Лицо зенитчицы было грязным, с белыми дорожками слез – плакала, пока несли подругу.
Лёля подошла к ней, осторожно взяла за рукав и спросила:
– Как же это с ней так, а?
Боец подняла голову. Влажные следы на ее запыленном сером лице уже постепенно высыхали. Она прошептала обветренными потрескавшимися губами:
– Это Лида, подруга моя. Вместе доброволками пошли. Вот, – зенитчица кивнула в сторону палатки, – последыш фашистский, гад. Мы уже и стрелять прекратили: думали, что все, бой окончен. А он вдруг как вынырнет из-за дыма, и на нас. Пока наводили – дал очередь наугад и снова спрятался за облаками, трус проклятый. Когда головы опустили, смотрим – Лида лежит на земле, вся в крови. Две пули в нее…
Не выдержав, девушка закрыла лицо руками и безмолвно зарыдала. Только тело её тряслось, будто в лихорадке. Лёля подошла к ней, обняла и прижала голову к своему плечу:
– Держись. Мы им отомстим. Обязательно. Каждого к стенке поставим.
Потом Лёля отстегнула от пояса фляжку, протянула зенитчице:
– На, попей водички. Все полегче будет.
Выплакавшись, девушка протянула руки и взяла фляжку. Лёля обратила внимание на ее пальцы. Они не были похожи на женские: грубые, с заскорузлой грязной кожей и черными ногтями, в пятнах крови. «Бедолага, как же ей там досталось», – жалостливо подумала санинструктор. Потом посмотрела на свои руки. Ничем не лучше. С каждым днем всё, что происходило здесь, на фронте, отдаляло девушек от их мирной красоты. Какие уж тут ногти! Вдоволь выспаться – вот о чем они теперь мечтали. И сделать это хотелось в тишине, а не под грохот рвущихся снарядов и бомб, стрельбу пушек и вой самолетов.
Глава 78
Ночь прошла очень тревожно. Лёле постоянно мерещился в черном небе нарастающий гул немецких самолетов. Она не могла себе найти места, все пыталась лечь поудобнее, да не получалось. То из девушек кто-то вскрикнет во сне, то другая прошепчет «Мамочка!», то снаружи палатки кто-то натужно закашляет, видимо, поперхнувшись горьким дымом от самокрутки, наполненной ядреной махоркой, недаром получившей среди пехоты прозвище «вырви глаз». Потому как попадет дымок от нее в глаза, и щиплет так сильно, что хочется окунуть лицо в ледяную воду и там проморгаться как следует.
Большинство девушек, которые прибыли на фронт вместе с Лёлей и были ей знакомы еще по курсам, которые они проходили в Астрахани, к этому времени уже пристрастились к курению. Правда, стеснялись делать это прилюдно, и потому обычно убегали куда-нибудь подальше, в сторонку, и дымили там, натужно порой кашляя с непривычки. Лёля несколько раз ходила с ними. Так, из любопытства и за компанию. Ей даже предложили как-то папиросой затянуться. Лёля попробовала. Осторожно набрала в рот дыма, но когда попыталась его вдохнуть, дыхание спёрло, она раскашлялась, да так сильно, что слезы брызнули из глаз. Вернув папиросу, она сказала: «Ну уж нет, я к такой гадости не привыкла». Девчонки, дымя, словно паровозы, только рассмеялись. «Ничего, – сказали они, – пройдет еще месяц другой, побываешь под огнем, захочешь курить».
Говорили они так, словно сами уже были опытными вояками и не раз вытаскивали раненых из-под вражеского огня. На самом деле опытная и повидавшая кровь и страдания среди них была Антонина, но она предпочитала курить в одиночестве, о чем-то грустно думая. Всех, кто желал составить ей компанию, она мягко, но настойчиво отправляла куда-нибудь. А мужчин, желавших «подымить с милой докторшей», посылала подальше простыми русскими словами. Сделав так раза три, она напрочь избавилась от потенциальных ухажеров.
Под утро снова прозвучал сигнал тревоги. Девушки, спешно поправляя одежду (никто в эту ночь раздеваться не решился, ожидая худшего), бросились по своим местам. В основном, попрятались по щелям, вырытым ими же неподалеку от палаток. Была надежда, что фашисты, увидев большие кресты на стенках палаток, не станут бомбить.
Правда, Антонина говорила о зверствах немцев, которым было все равно, кто под ними: хоть гражданский эшелон с женщинами и детьми, хоть военный с пушками да танками. «Все равно расстреливать и бомбами забрасывать станут», – говорила она, и желваки на ее тонком лице ходили ходуном.