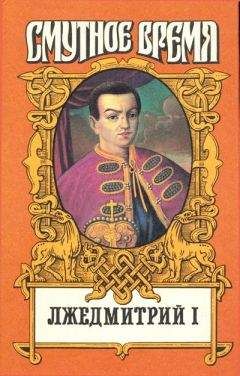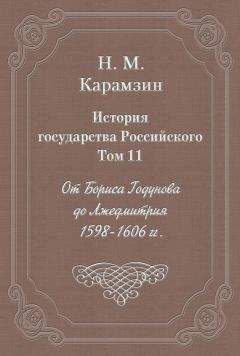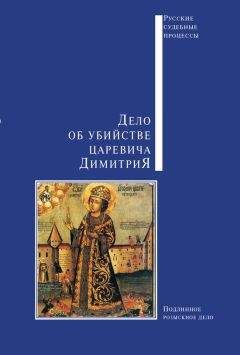С трудом отыскав гостевой двор, остановились у закрытых ворот. Ездовые стучали долго. Постник-Огарев из колымаги не вылезал, ждал. Наконец по ту сторону ворот завозились, скрипнули петли открываемых ворот, и колымага въехала во двор, остановилась. Боярин выбрался, недовольно сказал подбежавшему старому шляхтичу:
— Заморозить вознамерился. Веди в палату.
Пока хозяин принес дрова, разжигал давно не топленную печь и по хоромам пошло первое тепло, Постник-Огарев шубу не скидывал, сидел на лавке, обдумывал, как поскорей справить царское нелегкое дело, для какого наряжен он в Краков к польскому королю.
Дьяк Мокей внес боярский сундучок, поставил в угол, подождал, что скажет Постник-Огарев, но тот, уткнув нос в ворот, молчал. Дьяк потоптался, ушел.
Отогрелся боярин не скоро и за это время в коий раз успел вспомнить, как, провожая его, Семен Никитич Годунов наказывал:
— Свое дело, боярин, не дюже выставляй. А паче от иностранцев суть посольства скрывай, дабы они в своих землях языки не чесали. Для нас, русских, не боязен самозванец, соромно, смуты ждем. Вдвойне же постыдно королю польскому, вора пестует.
* * *
Исходили Варлаам с Артамоном всю комарицкую землю. Артамошка словом, а монах царским письмом люд на Бориса поднимали.
В ноябре-грудне надумали в Чернигов подаваться. По слухам, туда царевич Димитрий со своим войском подступал. Севск покинули в воскресный день. Торг миновали, за город вышли. В поле ветер завывал, поземку гнал, вдалеке лес темнел. Дорога пустынная, малоезженая, едва угадывается. Варлаам всунул руки в рукава нагольного овчинного тулупа, на самые глаза старый клобук напялил, шел следом за Артамоном. А тот насвистывал, будто не к нему холод под рваную шубейку забирался. Лишь голову наклонил — все не так ветер в лицо бьет, шагал широко, грелся. Варлаам не отставал. От Севска с версту удалились, монах голос подал:
— С пути не сбиться б! Может, воротимся? Избави метели взыграть.
Артамон глянул на хмурое небо, успокоил:
— Не похоже. Да и ворочаться без надобности, не к весне время, а в зиму. Теперь день ото дня погода хужеет, поспешать следует. Коли начнется метель, в первой деревне переждем.
И умолкали, каждый со своими мыслями. Варлааму хотелось в избу и теплого места у печи, Артамону же вспоминался Косолап. Гадал Артамошка: кабы не разбили их тогда под Москвой, был бы нынче Косолап с царевичем Димитрием аль нет? Не честил Хлопко ни бояр, ни царя. Они-де все одного поля ягодки. Искоренять их…
Артамон думал: «Царевич в Самборе говаривал, что даст холопам добрую жизнь…»
Размышления его нарушил стук копыт. Оглянулся Акинфиев, всадники их нагоняют. Варлаам забеспокоился.
— Ратники! Уж не годуновские ль? И укрыться негде.
У Акинфиева на душе тоже беспокойно. По сторонам посмотрел: кругом поле, и лес далеко. А ратники уже подъезжают, кричат:
— Сто-ой!
Остановились Варлаам с Артамоном. Всадники наперед заехали, дорогу закрыли. Один, постарше, с седла перевесился, разглядывает Варлаама.
— Не ты ль тот монах, коий люд самозванцевыми прелестными письмами смущаешь? Не тебя ли с твоим товарищем, разбойным холопом, мы ищем?
— Чего спрашиваешь? — перебил первого ратника второй. — Погнали к сотнику, он разберется.
Зажав Артамошку с Варлаамом меж коней, ратники повернули назад.
Гудел, волновался Севск. Поутру в город вступила сотня стрельцов. Прислал их сюда новый воевода Басманов. Велел боярин Петр Федорович ратникам народ усмирить, а тех, кто самозванцевыми грамотами люд смущает, изловить.
Многолюдно на торгу. В голодные лета в Севск народ сошелся, почитай, со всей Московской Руси. Ко всему, из окрестных сел крестьяне на воскресный торг съехались.
Из посада на торг вез горшки кривой гончар. Увидел, ратники монаха и Артамона гонят, хлестнул коня. Запрыгала на ухабах телега, гремела посуда. От Гончарова коня народ на торгу шарахался. Мужики смеялись, а бабы ругались:
— Ах, язви тебя!
— Бревно безглазое!
Гончар коня осадил, встал на телеге:
— Эй, комарицкие мужики, годуновские ратники людей царевичевых изловили, в сыскную избу поволокли!
Сгрудился люд вокруг воза, затих. А гончар свое орал:
— Атамана и монаха, что письмо царевича читал!
В ту пору гуляли на торгу Артамошкины товарищи, какие вместе с Хлопком Косолапом на Москву ходили, услышали кривого гончара, всполошились:
— Гони ратников из города!
— Освободим Артамона!
И двинулся люд к подворью воеводы, вооружаясь на ходу кто чем. Забил набатно колокол на церкви Вознесения.
Не ждали их стрельцы. Кто из них в тот час по городу бродил, какие, намаявшись в дороге, отдыхали. Мужики врасплох застали. Рухнули под ударами топоров сорванные с петель ворота, затрещали двери. И пошли крушить…
До сыскной избы донесся шум. Насторожились Артамон с Варлаамом.
— Чу! — монах приложил ладонь к уху.
— Погодь! — сказал Акинфиев.
Тут у избы затопали, лязгнули засовом, распахнули двери.
— Выходи, Артамошка! — весело закричали в несколько голосов.
— Где ты там, атаман!
По голосам узнал Акинфиев Косолаповых ватажников, подтолкнул монаха к выходу:
— Ну, Варлаам, знать, еще суждено нам погулять на воле!
* * *
Чудно Постнику-Огареву. Хоть и немало наслышан он о драчливости панов и шляхетском гоноре, однако такого не ожидал, чтоб на сейме, да еще при короле, паны друг другу едва полы кафтанов не обрывали. Галдели и облаивали один одного, не приведи Господь. Но королю нипочем, сидел себе в кресле невозмутимо, зевал.
Больше всех шумел на сейме долговязый пан Замойский. Постник-Огарев по-польски малость разумел, разобрал, что Замойский орал. Он князя Адама Вишневецкого и воеводу Юрия Мнишека винит, они-де повинны, — самозванца пестуют и мир между Русью и Речью Посполитой нарушили.
Московский боярин словам Замойского рад — верно говорит. Вот только лишнее в конце приплел, когда сказал: «Коли и возводить на московский престол кого, так не самозванца, а из рода князей Мстиславских».
Постник-Огарев даже затылок почесал. Им ли, панам, решать, кому на московском престоле сидеть?
Он стоял от Сигизмунда шагах в десяти, выжидал, когда паны перебранку закончат и король ответ ему даст. У Постника-Огарева ноги заболели: поди, час не приседал. Уже давно унесли государевы дары, что боярин вручил Сигизмунду, а перебранка меж панами не утихала. Одни Замойского поддерживали, другие на него нападали.
Надоело ждать тишины московскому послу, пристукнул посохом о пол, подал голос. А он у Постникова-Огарева зычный, даже самые крикливые паны услышали его речь:
— Вельможный король! Царь Борис Федорович и бояре московские хотят, чтобы ты, король польский и великий князь литовский, беглого монаха, вора Гришку Отрепьева велел изловить и Москве головой выдать.
Потемнел лицом Сигизмунд, дерзок московский посол. Не иначе, большим правом наделил его Годунов.
Глаза Сигизмунда заскользили по лицам панов. Стоявший за спиной короля сеймовский маршалок от слов Постника-Огарева даже жезл опустил.
Затих сейм в ожидании королевского ответа, а московский боярин невозмутим, очей с короля не спускает. Заговорил Сигизмунд:
— Я царю Борису рад уважить, но человека, назвавшего себя сыном царя Ивана, в Речи Посполитой уже нет. Его лучше всего искать на Руси. Ведь царю Борису и его боярам известно, что царевич Димитрий осенью ушел в земли Московии, — Сигизмунд усмехнулся.
Постник-Огарев снова голос подал:
— Что вор на окрайну Московской Руси двинулся, то нам ведомо. Одначе зачем вельможный король польский и великий князь литовский даже сейчас именует самозванца царевичем? Ко всему допустил пойти с вором на Русь польским и литовским шляхтичам?
— Царевич он либо кто иной, мы не дознавались, — перебил боярина Сигизмунд, — А панам я не указ. Если вступили они в службу к тому Димитрию, их воля. О том и передай царю Борису.
* * *
Едва передовые казачьи дозоры появились у путивльских стен, как между путивльскими воеводами, князьями Михайлом Салтыковым и Василием Масальским, ссора возникла. Масальский сомнение высказал: «У нас-де и силы недостаточно, и стрельцы ненадежны. А уж о городском люде и речи нет. Они давно за самозванца. Сколь их к нему убежало…»
Князь Салтыков Масальского в измене уличил, грозился царю Борису обо всем отписать. Но ночью воевода Масальский со стрельцами ворвались в салтыковские хоромы и, связав князя Михайлу, выдали казачьим атаманам.
* * *
Края Десны тронул первый прозрачный ледок. Оголились кусты тальника, далеко видно.
Кутаясь в бобровую шубу, Петр Федорович Басманов смотрел на реку. На середине Десна играла холодной водой. Берег пустынный на всем протяжении. За спиной боярина стучали топоры, перекликался народ. На прошлой неделе Басманов принял здесь воеводство. Царь Борис Годунов, посылая его, велел задержать самозванца, покуда не подоспеют из Москвы полки воеводы Мстиславского.