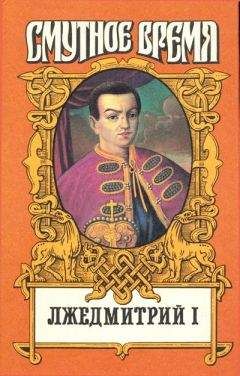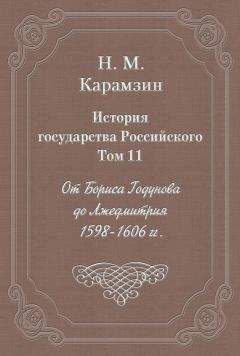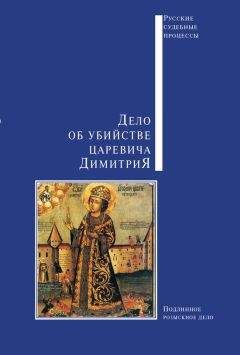В замке воеводы Мнишека в ожидании похода веселились ясновельможные паны. Воевода Мнишек торопил. Войско царевича перевалило за две тысячи. Оно съело все запасы сандомирского воеводы. Тех злотых, что дал царевичу король, едва хватило рассчитаться со шляхтой.
В последнее время в душе Мнишека зародилась надежда — вдруг да станет этот, назвавшийся царевичем Димитрием, беглый монах царем Московии? Иногда, правда, ворошилось в душе Мнишека сомнение и боязнь за Марину, но воевода тут же гнал их от себя. Юрий Мнишек знал, что дочь не любила самозванца, но епископ Игнатий уже беседовал с ней. О, этот папский легат не случайно в Самборе. Он не оставляет самозванца одного ни на минуту. А уж коли иезуиты чего унюхали, они своего добьются. И поддержка самозванца Сигизмундом, и приезд Рангони заставили Мнишека по-новому взглянуть на Григория Отрепьева…
Воевода не ошибался, Марина действительно не любила Григория. Но разве могла она ослушаться епископа? А папский легат на исповеди сказал ей: «Дочь моя, помни, не одно влечение сердца движет судьбой. Разумом познай свое место. Великая судьба уготовлена тебе. Послужи церкви нашей, не отвергай любви будущего царя московитов. Когда станет он царем московитов, а ты московской царицей, церкви нашей откроется дорога на Русь».
Марина покорно соглашалась с епископом. Об одном лишь просила — не неволить ее до того, пока Григорий не вступит в Москву. Себе одной она могла бы сказать, что не служба церкви побуждает ее стать женой самозванца, а честолюбие: быть царицей сказочно богатой Московии!
С утра Марина гуляла в пустынном парке. Под ногами шуршала прошлогодняя листва, пахло прелью. Гордо ступала дочь воеводы, чуть приподняв длинный подол черного бархатного платья.
Отрепьев не отставал. Марина слышит его голос:
— Пани Марина, ты затмила мне ум, в твоих руках мое сердце. Это я тебе говорю, царевич Димитрий.
Марина приостановилась, повернулась к Отрепьеву. Взгляд ее насмешлив.
— Разве Димитрий уже сел на царство, что добивается моей руки?
— О Боже! — воскликнул Отрепьев. — Неужели ты не веришь в это?
— Но вера и надежда не есть свершившееся, — прервала его дочь воеводы. — Я прошу пана Димитрия не забывать: от этого зависит моя любовь к нему.
— Хорошо! Пани Марина Мнишек въедет в Москву царицей! — Григорий круто повернулся и пошел к замку.
Издали увидел у самых ворот инока Варлаама, поманил:
— С чем явился, монах?
Варлаам склонился, промолвил:
— Князь Голицын поклон шлет, царевич. На Москве ждут тебя.
— Вспомнил-таки князь Василий, — губы Отрепьева тронула улыбка. — А кто твои товарищи, Варлаам?
— Казаки с Дона, Корела и Межаков, да холопий атаман Артамошка Акинфиев.
— Челом бьют тебе донцы, царевич, — хором произнесли казаки. — Выборные мы от своего круга.
— Ну-ну, казакам, людям вольным, я рад, — потер руки Отрепьев.
Артамону любопытно, эвона каков царевич. А обличье у него не царское. Лик голый, безбородый, наряд, как у шляхтича…
И брали сомнения Артамошку. Но тут властный голос Отрепьева нарушил мысли:
— О чем думы твои, молодец? Чего искать у меня восхотел?
— Слухом земля полнится, — глядя в глаза Отрепьеву, смело ответил Артамон. — Говаривают, на Москву пойдешь ты, царевич, жизнь холопскую полегчить вознамерился. Коль так, мы служить тебе будем с радостью.
Отрепьев кашлянул в кулак:
— Истину рекут, кто меня примет, государя во мне видит, — боярин ли, холоп, в обиду не дам. Седни тебе, холопу Артамошке Акинфиеву, вольную жалую. Ступайте. Вскорости пойдешь ты, Артамон, с моим царским письмом в Севск, люд на Годунова поднимать станешь. Коль не грамотен, инок Варлаам с тобой пойдет, читать будет. А вам же, казаки, — Григорий повернулся к донцам, — жалую жизнь вольную не токмо на Дону, но и по всей московской земле. Вернетесь к себе на Дон, скажите об этом всем казакам на круге. Жду я казаков к себе в войско. Помогут мне — и я, царевич Димитрий, казаков не забуду своей лаской.
* * *
В сопровождении сотни казаков Отрепьев возвращался из Львова в Самбор. Ехали с короткими привалами, торопились.
Стремя в стремя с Григорием скакал воевода Мнишек. Переговаривались между собой редко, каждый о своем думал. Отрепьев доволен: во Львове ждут его три тысячи запорожцев да тысяча шляхтичей в Самборе. Но это только начало. Пора выступать. Повернулся к Мнишеку, спросил:
— Не желает ли вельможный пан вступить в мое войско воеводой над шляхтой?
Натянув поводья, Юрий Мнишек глянул на него из-под густых, нависших бровей:
— Але царевич Димитрий зовет меня только в службу?
Правая бровь воеводы взлетела вопросительно. Отрепьев остановил коня:
— Договаривай, пан Юрий!
— Але я не ведаю, что царевич Димитрий хочет иметь пани Марину своей женой?
— Ты прав, воевода, — Григорий насупился. — Но пани Марина не желает этого.
— Эге, царевич Димитрий, за Марину я отвечу. Я вступлю в твою службу со своими гайдуками. И дочь мою Марину возьмешь ты в жены, когда сядешь на царство, но обещай и мне отплатить за то добро.
— Чего хочешь ты, воевода? — Отрепьев не сводил глаз с Мнишека.
— Царевич Димитрий, я отдаю тебе самое дорогое, но и ты будь ко мне милостив. Много злотых должен я, а с той поры, как ты здесь, я истратился вдвое.
— Я верну все свои долги, как только вступлю в Москву, — прервал Григорий воеводу. — Чего еще ты просишь?
— Царевич должен дать своей жене Марине доходы с Новгорода и Пскова…
— И то обещаю, — согласился Отрепьев.
— О, доброта твоя, царевич, известна. Прошу еще, дай мне в уделы Смоленск и Северский край. Сам ведаешь, какие расходы несу.
Отрепьев не стал говорить Мнишеку, что это уже обещано королю Сигизмунду. Махнул рукой:
— Все получишь. Но прежде вы, поляки и литвины, помогите мне в войне с моим врагом, Годуновым.
И, трогая коня, закончил:
— Да еще не забудь, объяви своим панам вельможным, что быть Марине Мнишек моей женой…
Оставшуюся дорогу молчали. Вот и в Самбор въехали. Смотрит Отрепьев, навстречу инок Варлаам бежит. Волосы из-под клобука выбились, лицо растерянное. Кричит на ходу:
— Государь, дядька твой из самой Москвы! О тебе с панами речи непотребные ведет.
Григорий строго глянул на Варлаама, тот и осекся.
— Пустое плетешь, монах, о каком дядьке молвишь?
— Сотник Смирной-Отрепьев, — робко проговорил Варлаам.
— Умолкни! — Григорий в сердцах хлестнул коня, поскакал к замку.
Издали разглядел в толпе шляхтичей своего дядьку Смирного-Отрепьева в длиннополом кафтане, шапке островерхой. Сотник что-то говорил панам, а сам смотрел на Григория.
Подъехал Отрепьев ближе, коня остановил. Замолчали шляхтичи, ждут, о чем речь поведет сотник и как ему племянник ответит. А Смирной-Отрепьев ни поклона Григорию не отвесил, ни приветствия, сразу стыдить принялся. Закричал:
— Как смел ты, Гришка, царевичем Димитрием назваться? Самозванец ты, а не царевич!
Побледнел Отрепьев, сжал повод. А сотник свое:
— Чего удумал? Государь Борис Федорович послал меня рубеж надзирать, а я к тебе завернул, прознав, что ты здесь, в Самборе. Покайся, Григорий, не позорь дворянский род Отрепьевых.
Подал знак Григорий, и два казака подскочили к сотнику, сабли из ножен потянули. Но Отрепьев покачал головой:
— Не надо крови. Безумен он и Годуновым науськан. Вы, Отрепьевы, жизнь мою царскую сберегли, меня с малолетства от годуновских людишек укрыли, и за то вам честь великая. Но нынче не надобно хитрить. Не из своих уст говоришь ты, сотник Смирной-Отрепьев, а из годуновских. Ко мне в родство набиваешься. А вот уже приду я на Русь и займу свое место, как заговоришь ты тогда?… За то, что хулу ты на меня возводил, прощаю. Теперь же хватит пустословить, казаки мои проводят тебя. Езжай туда, куда тебя Годунов послал, и служи ему, если мне служить не пожелал. Но, — Отрепьев поднял руку, — коли еще будешь обо мне злословить, вдругорядь не помилую.
Дума Боярская. Самозванец перешел рубеж. Посольство Постника-Огарева. Погуляем на воле! У Новгород-Северска. Князь Мстиславский отходит к Добрыничам. Царь Борис и дума приговорили сбор нового войска.
На думу сошлись, как на поминки. Если кто с кем переговаривался, то шепотом. Томительно ждали бояре государева выхода, нетерпеливо поглядывали на дверь, елозили по лавкам. Ох-хо, дни какие настали!..
У князей Шуйского и Голицына места в думе рядом. Чуть ближе к царю Шуйский, за ним Голицын. Тут же место должен занимать Федор Никитич Романов, да он в монастыре томится…
За Голицыным, нахохлившись, сидел мрачный Иван Борисыч Черкасский. Совсем недавно воротил его Годунов из ссылки, вотчины отдал и в думу завел. На виду князь Черкасский будто помирился с Борисом, а на деле таил обиду, ждал поры.