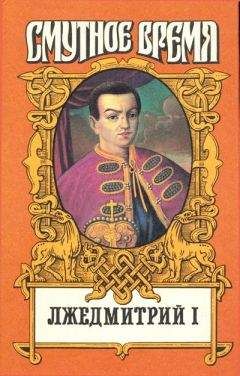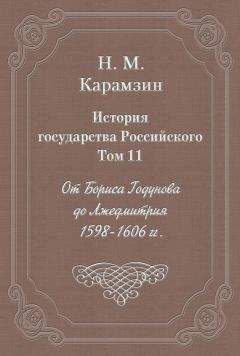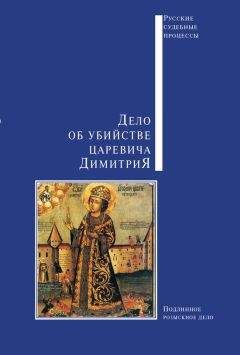Бок о бок сидят князья. Василий Васильевич Голицын сухонькие ручки положил на посох, косится то на Шуйского, то на Черкасского. Те что в рот воды набрали.
По ту сторону Грановитой палаты — Семен Никитич Годунов. К стене спиной прижался, с князей глаз не спускает. В подозрении они у него.
Борис вошел в Грановитую палату не один, с патриархом Иовом. Не спеша поднялся на помост, уселся в кресле и только после того повел темными очами по палате. Заговорил негромко, глухо:
— Речь моя, бояре, не длинная и об одном она, о самозванце. Ныне явно, король и шляхетство его руку держат, на нас вора выпустить собираются. Вы, верно, знаете, Отрепьев на окрайну к казакам и холопам прелестные письма разослал. И еще, — лицо Бориса сделалось пасмурным, — доходят до нас слухи, кое-кто из бояр и князей нашей беде возрадовался. Не хочу называть их имена, но об одном вас, бояре, спросить желаю. Не вы ли меня противу моей воли на царство избрали? Не я ль вам служу по совести? Так отчего возрадовались самозванцу?
— Государь, назови нам тех, кто тебе козни строит! — вскочил Петр Басманов.
Вздрогнул Шуйский, Голицын вперед подался. В напряженном выжидании замерли в палате. Годунов медлил. Но вот покачал головой.
— К чему? Хочу добром жить с вами, бояре. Не держу я зла ни на кого, и вы на меня его тоже не имейте. Нам в согласии жить надобно. От лихих людей и холопов кто вам защита, как не я? И эту рубаху, — Годунов взялся за ворот, — готов разделить я с вами, бояре.
— Нам ли не ведома твоя доброта, государь! — угодливо подхватил князь Черкасский, а у самого глаза злые, холодные.
— От Бога власть твоя, — вставил патриарх Иов. — И на тя, государь, указал нам Господь своей десницей.
Тут раздался голос Семена Никитича Годунова:
— Заслать посла к королю, потребовать выдачи самозванца.
И вразнобой загалдели думные бояре:
— Верно!
— Нарядить!
Молчавший до этого Шуйский вдруг завопил:
— Отправить к Сигизмунду гонца! Требовать вора!
От неожиданности Голицын даже отпрянул от Шуйского, глянул на него удивленно.
На думе засиделись допоздна. Грановитую палату покидали в сумерках. Шуйский с Голицыным ушли вместе. До Неглинной им было по пути, и разговор у них теперь один.
— Како Годунов взмолился. — Шуйский оглянулся по сторонам. — Слушок есть, Смирной-Отрепьев заместо того, чтоб рубеж крепить, в Польшу ездил, в Самбор, к племяннику.
— Хе, хе, — засмеялся Голицын. — Гришка Отрепьев удила закусил. — И Василий Васильевич тут же спросил Шуйского — А ты с чего это, князь Василь Иваныч, на думе так за Бориску голос драл?
— Эвона! Аль не приметил, как Семка на нас очи вылупил? Вот и орал, ему напоказ…
А в Грановитой палате, оставшись вдвоем, Борис иг боярин Семен Никитич Годунов речь о самозванце вели. Говорил Борис:
— Ты, Семен Никитич, сотника Смирного наряжая, напутствовал, а меня заверял, коли, мол, дядька самозванца при панах начнет обличать Отрепьева, шляхта от него отвернется. Ан по-твоему и не вышло.
Борис продолжал сидеть в высоком царском кресле. На государе шитый золотом кафтан, волосы прикрывает круглая шапка.
В неярком горении свечей резко выделялось бледное лицо.
— Так кого же гонцом в Речь Посполитую нарядим? — спросил Борис.
Боярин Семен Никитич поднял глаза на государя, ответил, словно советуясь:
— Может, Постника-Огарева?
— Гм, он разумен и нам, Годуновым, служит по совести. Можно и его, — согласился Борис. — Только уж ты, Семен Никитич, сам поучи его, как ему надлежит с королем себя вести. Пусть одно Сигизмунду твердит: Польша и Литва беглого монаха, вора Гришку Отрепьева пестуют.
— Знамо, государь, каким речам гонца обучать.
Борис поднялся:
— Я же с Постником встречи не желаю. Довольно, и так разговоров сколь на Москве, что Годунов самозванца боится.
Опустив голову, прошелся по палате. Боярин Семен следил за ним, ждал. Борис остановился, потер лоб:
— Завтра поутру велю Петру Басманову в Новгород-Северск ехать. Северскую украйну крепить надобно и холопов усмирять кровью. Там их скопилось тьма. Они самозванцу подспорье.
* * *
В тот год осень выдалась сухая. Не тронутый морозами зеленел лист на дереве. Даже ежившиеся кустами болота в такую бездождливую пору не казались угрюмыми.
В чистом воздухе висели серебряные нити паутины, в полях, в пожнивье звонко кричали перепела, собирались в стаи скворцы.
Ночи звездные, утра росистые, холодные, но к полудню солнце выгревало как летом, хотя и Покров наступил.
…Октябрь тысяча шестьсот четвертого года. Объединив во Львове тысячный отряд польско-литовских панов и три тысячи казаков, Отрепьев переправился через Днепр у Киева, вступил на Русь.
Шляхтичей вел воевода Юрий Мнишек. Накануне в Самборском замке состоялась помолвка Григория с Мариной.
Отрепьев доволен, хорошее начало похода. Не успели за Днепр переправиться, как к войску пристало десять тысяч донцов. Их походные атаманы Корела и Межаков били Григорию Отрепьеву челом от всего войска Донского.
От Киева самозванец повернул на Чернигов. Двигались тремя колоннами: правая — донцы, левая — запорожские курени, а в центре Отрепьев с шляхтой.
Из Севска и Кром, Путивля и Курска да иных земель прибывал к самозванцу люд. Радовались, в царевиче Димитрии мужицкого заступника видели.
Беглых холопов определяли по казачьим куреням.
Росло воинство самозванца…
Подступили передовые отряды к Чернигову, и без сопротивления открыли черниговцы крепостные ворота.
Черниговский воевода князь Иван Андреевич Татев Отрепьеву хлеб-соль поднес.
Колокольным звоном встречал город новоявленного царевича. День морозный, и снег засыпал землю. На деревьях и крышах домов, на маковках церквей и крепостных стенах первый снег лежал шапками.
Отрепьев ехал впереди войска на тонконогом белом скакуне. Конь в золотой сбруе, но сам Григорий одет просто, в шубе нараспашку, из-под которой выглядывает тонкая, свейской работы броня, на ногах сапоги сафьяновые. У иного польского или литовского пана одежда познатней.
Поглазеть на царевича народ валил толпами. Позади Отрепьева гарцевали польско-литовские шляхтичи, шумные, крикливые. На расстоянии от них длинной лентой растянулись казачьи полки.
Из толпы кто-то голос подал:
— Глянь-кось, как ляхи царевича окружили!
Нахмурился Отрепьев, но ненадолго. Сравнявшись с усадьбой воеводы, направил коня к красному крыльцу и соскочил на снег, легко поднялся по ступеням. За ним князь Татев, а следом в хоромы повалили вельможные паны. Разошлись по избам посада на постой шляхтичи с гайдуками, а казаки разбили стан за городом.
* * *
На другое утро самозванец принимал люд. На воеводском дворе народа собралось много. Отрепьев был весел, сидел в кресле на крыльце и говорил не громко, но внятно — все слышали:
— Вы меня, черниговцы, признали, и за то я к вам с душой чистой. Оставляю вам нового воеводу, а старого, князя Ивана Андреевича Татева, с собой заберу. А еще возьму у вас огневого наряда, пушек двенадцать да стрельцов три сотни, И наперед наказываю, ежели войско недруга моего Бориса Годунова к Чернигову подступит, крепость ему не сдавать, ждать моей подмоги. А за вашу верность мне, царевичу Димитрию, будет вам моя ласка.
Ликуя, взревела толпа. Тут, расталкивая люд, стрельцы вытолкнули к государю маленького, хлипкого человечка в кафтане, без шапки.
Отрепьев брови вскинул:
— В чем вина?
Казаки загалдели:
— Изловили, хулу на тебя возводил!
— Ну? — нахмурился Отрепьев. — Кто таков? Аль по смерти соскучился? Приготовьте виселицу, авось меня с высоты признает.
— Помилуй, государь. Дворянин я, Хрущов — И бухнулся на колени. — Бес попутал! Теперь узнаю в тебе царевича Димитрия.
— То-то! На первый раз прощаю. Ради них, — самозванец повел рукой по толпе.
И снова на весь город заорал люд.
Встал Григорий, дал знак: конец встрече и, подозвав казачьих атаманов и воеводу Мнишека, велел выступать частью на Путивль, а сам на Новгород-Северск двинулся.
* * *
В тот день, когда самозванец вступил в Чернигов, в Краков въехал московский посол Постник-Огарев. Заканчивался сырой промозглый день. Боярин ежился, кутался в шубу. Ноги в легких сапогах настыли. Постник-Огарев кашлял, шмыгал красным, простуженным носом. Маленькое морщинистое лицо посинело от холода.
Сквозь слюдяное оконце едва проглядывались в плотном тумане узкие улицы, дома, торговые лавочки и мастерские ремесленного люда.
С трудом отыскав гостевой двор, остановились у закрытых ворот. Ездовые стучали долго. Постник-Огарев из колымаги не вылезал, ждал. Наконец по ту сторону ворот завозились, скрипнули петли открываемых ворот, и колымага въехала во двор, остановилась. Боярин выбрался, недовольно сказал подбежавшему старому шляхтичу: