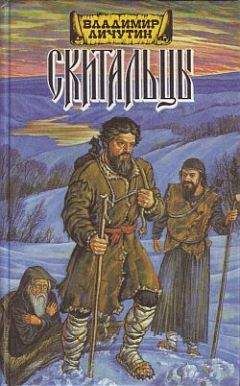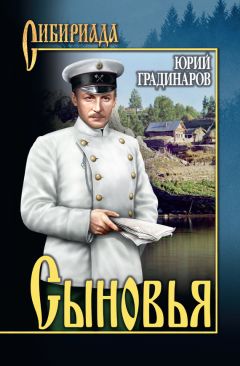«Но не во мне ли грех?» – впервые подумалось с ясностью необыкновенной, так что душа повернулась и заныла. Не пожелай жены искреннего твоего... Нет, не отымал жены ближнего. Это у него, Доната Богошкова, осквернили любовь, единственную и навечную. Не быть больше на миру радости утешной, не свидеться мне с тобою, Тая, не восхититься, не утешиться. Во мраке пребываю я, и некуда больше падать: скотина я последняя. Увлек тебя, замутил, соблазнил, наобещал и кинул. И ниоткуда помощи тебе, как перст ты одна на заледенелой дороге. Отныне каждый надсмеется и заденет больным словом, и нет у тебя заступы, нет надеи, нет затулья, нет крепости, за которой бы затаилась, нет стены, куда бы заступила от чужого догляда. Коли можешь когда, прости, Тая, Тася, Таисья. Таюш-ка-а, прос-ти-и...
И сам не слышал Донат, как заплакал, слеза давножданная пролилась, ожгла щеку, насквозь проточила соломенную подушку, прободала лещадный пол и ушла в землю. Сколько еще плакать придется? Сколько плакалось до него? Скопится там, в мерзлой темени, озерцо невысыхающей очистительной влаги. Вот где живая-то вода. Испить бы ее и излечиться. А там хоть на плаху, голову напрочь... Простонал Донат едва слышно, резко повернулся на спину, разлепил мокрые глаза и устыдился своей слабости.
– Откройся, брат, что с тобою? – услышал жалостливый просительный голос. Склонилось иссохшее лицо с редкой бородою, разномастной на щеках. Черные глаза казались звериными. – Облегчи душу, брат мой.
Но отвечать Донату не пришлось: открылась камера и привели нового постояльца. Он поклонился поясно и надолго, с видимой тревогой и скорбью застыл у порога, словно бы опасаясь проходить. Наверное, ждал, что вот кликнут и позовут обратно.
С его морщинистого, бледно-желтого лица, слегка шадроватого, не сходила растерянная полуулыбка обманутого невольного человека. Пришелец озирался, как бы подстерегая насмешку иль злой умысел. «Мир сему дому», – сказал он и отряхнул ладонью седую округлую бороду. Но чем долее привыкал гость, тем ровнее становился взгляд: хотя, казалось, чего обнадеживающего могли найти его сталистые, вприщурку глаза? Высокие, покрытые штукатуркой, оббитые людьми и сыростью стены, двое полатей для собратьев по камере и широкое чрево печи, топящейся из коридора. У арестанта, видимо, было свое особое намерение, иначе зачем бы с такою пристрастностью разглядывать будущее пристанище? Тюфяк, набитый соломою, он бросил подле печи, не брезгуя грязью и будто не заметив параши и вони в ближнем углу, потом обошел камеру, отыскивая гвоздик или какую-то выбоинку, но ни полочки, ни штыря, ни спицы не нашел он на гладкой стене: захочешь ежели удавиться, то смекалка нужна особая, хотя, ежели сказать, желающий смерти и крови найдет их, не сходя с постели. Металлической расческой, оказавшейся в арестантском армяке, новичок навертел в стене дырку, воткнул туда спичку, потом из-за пазухи добыл иконку старого письма, обмотал ниткой, повесил и принялся молиться. То был бывший соловецкий сиделец Алексей Старков.
Во все то время, пока устраивался пришелец и пока молился, а стоял он на коленях не менее часа, арестанты пристально наблюдали, каждый, наверное, соображая о своем. В ужну Насонов растерялся, долго скреб ложкою в миске, но пищи так и не принял: душа его страдала, а лицо покрылось болезненной бледностью. Насонов так взмок вдруг, что пот заструился по впалым щекам, впору подбирать полотенцем. Он с жалобой и тоскою взглядывал в запечный угол и все же переборол себя.
– К поморскому согласию склонен? – спросил Старков.
– Не склонен, а верую, еретик, – неожиданно грубо отозвался Насонов, сейчас особенно ненавидя соседа: ему страшно было валиться в постелю, уходить во мрак.
– Всем спать, всем спать, – прокричал караульщик, и раскатисто прокатился по коридорам требовательный голос.
– Замолчи, амбарная сучка, – раздалось в ответ где-то глубоко внизу, как бы под землею, и так же глухо засмеялись камеры.
Беглый священник сложил руки крестом на груди и легко, бесплотно откатился в сон. Донат же маялся на ложе и с сердечной судорогой ждал ночи, когда вскинется бешено Насонов и завьется по камере.
Старков увидел, что больной плачет, не стыдясь слез. Он тут же подсел на кровать, поднеся руку свою к губам Насонова, и тот вдруг, не поколебавшись, поцеловал ее и приложил к груди, не отпуская более. И так, не отымая руки, Старков принял исповедь.
– Отец, я убил беса в монашеском колпаке. Он хотел соблазнить мою мать, и я зарубил его топором. – Насонов говорил хотя и болезненным, тихим голосом, не подымая и не опуская его, но взгляд его был чистым и здравым, а слова ясны и полны законченного смысла. Ничто не выдавало той недавней душевной болезни, что мучила Насонова ночью.
– Может, привиделось тебе? – усомнился Старков.
– Нет-нет, матери я не убивал. Меня подозревают, но я вовсе в том не виноват. Я в то время не был дома, а на рыбной ловле и, возвращаясь в деревню, не доходя верст двух, вдруг был схвачен... Отец, они меня схватили и привели, они мне объявили, что я убил свою мать... Вот беса я хватил топором, и теперь они меня окружают каждую ночь. Я знаю того антихриста, я видел его, он живет в Керети под обличьем крестьянина Федора Пономарева... Смотрите, отец, он поставил мне антихристову печать, он заклеймил меня. – Тут Насонов с испугом поднял голос, глаза заблестели со страхом и тревогою. Он порывисто, насколько позволяли силы, заголил руку. Но ничего Старков не усмотрел на бледной, вялой коже. – Посмотрите, вот она, черная печать.
– Успокойся... Ничего не вижу. Немощная рука, забывшая труд, и немытая кожа. Жилы твои забиты дурной кровью, вот и все, что я вижу.
– Как, вы не видите? Вы не видите эту черную печать? Мы все окольцованы черной печатью, мы жить не можем, двигаться, любить, дышать без нее. Кругом антихристова печать, вглядитесь, отец. И на вас та же печать еретика и антихриста... От Никона она, Петруши-царя и поныне, поныне царствует. Все заперли, все закрыли, колесо печати катится по России-матери, огромное колесо, и мы подавлены, запечатаны им... Сколько бумаг, чиновного люду, полицейских будок. Стена печатей. Без печати шагу не ступить, сразу ты бродяга, вор, тать, сразу умыкнут, запрячут в каторгу, сошлют в Сибирь. И нету тебя, нету, как и не было...
– Это не антихрист завладел нами, а власть, – попробовал образумить Старков.
– И власть антихристова. Все под властью, все-е...
– Ты стариков-филипповцев наслушался, сын мой... Но нам-то грешно нынешних тихих царей признавать антихристами.
– Тихие?.. А пошто вы здесь? За какую кару? Иль убивец? Потому и угодили сюда, отец, что без пачпорта шатались. А что есть вид на жительство, как не печать антихристова, особым родом внушенная, чтобы вовсе опутать нас, оковать, отградить друг от друга, от свободы, от наших желаний. Чтобы не могли мы жить сами по себе, как Бог научал...
– Но чтобы и сохранить нас вживе, чтобы сохранить. Иначе рассыплется все, и человек пойдет на человека, и потекут реки крови, и погинет Русь... Вот вы глаголете: Никон-антихрист. Мученик Аввакум, которого мытарили двадцать восемь лет и наконец сожгли, он учил, что антихриста еще нет. И Никон не последний антихрист, а так, шиш антихристов, изник из земли нашей.
– Бес ты, бес, и ничего в тебе русского, ничего святого. Изыди от меня, пока не плюнул в бесовскую рожу.
Но и тут не вспылил Старков, но только напрягся весь, и волосы, подбитые кружком, как бы вздыбились. Отошел к печи и уже издали продолжал с настойчивой, неколебимой силой:
– Сам ты еретик, и вера твоя беспоповская самая ни на есть еретическая. И вдвойне ты еретик, что в никонианской церкви служил, в колоколы зазывал прихожан к врагам своим, смущая душу, а сам крестился дланью. И втройне ты еретик, что, отвергая по вере своей жену, однако женат был. А много ли надо, чтобы рухнуть душе? И вот рассыпалась она от блуда, ибо нельзя верить во много вер сразу. Отсюда и бесы в тебе, ибо ты самый безверный человек, и крест тебе не подмога. А бесы чуют слабую душу, чу-ют.
Но Насонов, отвернувшись к стене, смолчал, не желая более тратить слов на еретика. Лишь под вечер, когда навестил надзиратель, расстрига-пономарь попросился в тюремную больницу. А через неделю в башне затеяли ремонт, и сидельцев перевели в общую камеру.
Два ката было в тюремном замке, и вдруг оба запросились с бессрочной должности.
Илья Лазарев, крестьянин из Пурнемы, был замешан в убийстве крестьянской девки Авдотьи Егоровой. Приговоренный когда-то к восьмидесяти ударам розгой, арестантской роте и ссылке в Восточную Сибирь, испугался лечь под розги, битым быть, и с такой робости пошел в палачи. Восемнадцать лет отслужил заплечных дел мастером и вот сдал ныне: сухая чахотка точит грудь, ломота в ногах, в глазах студень, видит от близорукости не далее четверти аршина. От плохого зрения не раз, случалось, попадал розгою не по тем частям тела, куда полагалось, за что и сам бит неоднократно по распоряжению полицмейстера Шепетковского. Какая гроза от палача, какой ужас? Ныне одна жалость при виде заплечного мастера Ильи Лазарева: волос с головы пропал, щеки к зубам присохли, серые, как овечья шерсть, плечи согнуло. Волочится по тюремным коридорам как тень иль долго стоит в тени и смотрит куда-то вдаль. Кажется, плюнь на такого – упадет и растает в тюремном камне. Одного мгновения однажды убоялся – лечь на скамью и вынести первый ожог плетью; а там вой, рычи, кляни матом, расслабься киселем. Эка невидаль – восемьдесят розог для сильного человека; да никто от них на веку не умирал. А тут запечатал себя, как в монастырь, без конвойного ни на шаг из замка: идешь на базар, чтоб сайку крупитчатую пятикопеечную взять иль трещочки фунтик, а сзади часовой волочится, дозорит. Если жена Акулина когда навестит, так в палаческой намилуешься, как наплачешься. Собачья жизнь. Пока в катах состоял, пока иго то носил, народились сыновья Санаха, Петруха, Никишка да две девки. Его ли, Ильи Лазарева, они иль чужие пестуны, пойми: меньшой-то, Феньке, полтора годика, а волосы как пламень. Нет, не нашего она роду-племени, не лазаревского.