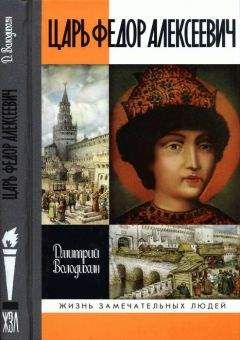— И блаженненьким, на которых святой дух нисходит, — подхватила царица.
Она была довольна. Афонюшка обещал: просимое содеется. Она нимало не сомневалась, что так оно и будет. И родит она великожеланного сына, наследника. Были уж две дочери — Марья да Федосья, да старшую, первенькую, Бог прибрал. «Не наказание ли это за грех прелюбодеяния?» — иной раз думала она. Не посылает ли ей Приснодева за то одних девок? А ведь она страстно молила у нее сына. Более всего хотелось ей оправдать общее упование всех Милославских и прежде всего, разумеется, супруга своего и властной сестрицы его царевны Софьи.
Царевны она инстинктивно боялась. От нее исходила некая злая сила. Побаивался ее и царь Иван. Она им помыкала и слушался он ее беспрекословно, всем о том было ведомо. Конечно, был он немощен и головою слаб, надо было за него управлять. Она, Прасковья, сего не могла, государственного ума не имела. Одно звание — царица. А что царицы всего-навсего служанки своих повелителей и в их дела не мешаются, то было известно лишь узкому кругу ближних бояр.
После двух лет бесплодия Софья замыслила низложить ее и заточить в монастырь, а братцу своему приискать новую супругу, благо выбор был велик, в надежде, что та будет плодною. Слава Богу, Софья умедлила — смутные времена наступили, было ей не до этого. Прасковья понимала: коли Софья решила найти ей замену, ее Иван, хоть и царь, безмолвно согласится с таковою переменою, хоть и угождала она ему и его тиранке-сестрице всяко. Кабы не Васенька, быть ей монашкою в какой-нибудь обители. Небось, и не в ближней, а в дальней. Хорошо бы в Суздале, в Рождественском монастыре, а то ведь сестрица может упечь и куда-нибудь в Олонецкую землю.
Приноровилась. И все бабка Агафья. Спасибо ей, придумала, как без опаски видеться. Семя-то у Васеньки плодное, хоть он еще в мужской возраст как следует не вошел. Вот ведь дива дивные. Грешна ли я? Не замолила грех-то добрыми делами — сколь у меня в подклете странников да нищебродов кормится. Не менее полуторасот, а то и поболее. Жертвую на храмы да на монастыри щедро. Да и кто в телесный грех не впадает? У царевны-то Софьи два таланта — князь Голицын Василий да Федька Шакловитый. Когда князинька в отлучке, Федька под бочок к ей приваливается. Оба — мужики здоровые, не то что мой царь Иван. Одна сказка, что царь, а совсем без ума. А сестрицы ейные — царевны? Все талантами обзавелись.
«Да и у меня, — размышляла царица, — выбор есть. Приписано к штату моему двести шестьдесят три стольника. Иных-то я и видом не видывала. А вот два — оба Васеньки — любимцы: Юшков да Татищев. Татищев умен больно, горазд рассуждать да поучать, но собою пригож. Они со мною на гуляньях по саду безотлучно… Вася Татищев разные сказки сказывает, что в книгах вычитал. И про галантов чужестранных кои рыцарями зовутся, и про морских чудищ, и про стародревности. Погожу, когда в возраст войдет, глядишь, и его опробую…»
Хорошо жилось царице Прасковье, не то что в девушках. Все ей услужают, все заискивают, все ей подвластно. В саду чего только не растет! Ягоды какие хошь, даже и диковинные, которые царица не решалась пробовать. Росли там и деревья грецкого ореха, посаженные еще при царе Алексее. Только орехов с них она что-то не дождалась. А яблони либо груши были высажены иноземными садовниками таких видов, что плод свой дарили месяц за месяцем. И вкус был разный, и вид был несхожий. А еще сливы — то с кислинкою, то с горчинкою, то с медовым духом.
А еще любила царица Прасковья качели с сиденьями атласными, мяконькими. И чтоб раскачивали их оба — Васеньки. Бывало, так раскачают, что дух захватывает. Царица — ох да ах, а то и взвизгнет, когда высоко к небу взлетит. Юбки круг ног обовьются, а то и подымутся так, что приходится их руками примять. Царь Иван как-то глянул на эту потеху да и молвил:
— Царице-то непристойно при мужеском персонале таковые затеи затеивать.
Конечно, ему, болезному, на качели глянуть страшно, не то что сесть да раскачаться. Но Прасковья отговорилась:
— Оба стольника вьюноши добронравные и избранные по сей причине. А потому его государскому величеству нет причины на то сетовать. А качели дух укрепляют и сердце веселят. Опять же для здравия общеполезны.
Ну что оставалось возразить царю Ивану? Пришлось смириться. И отправился он, по обыкновенью, в церковь и там скороговоркою пробормотал молитву за здравие царицы, дабы не вводили ее вьюноши во греховные мысли, потому как они в том возрасте, когда их соблазны обуревают, а от них те соблазны, кои весьма заразительны, не передались бы царице.
Кроме церкви, любил еще царь Иван ходить на скотный двор. Он был весьма обширен. В хлевах содержалось полторы сотни коров, не считая телиц и телят. Он любил запах коровьего тела, такой приманчивый, в коем смешалось все: и духмяность трав, и молочный дух, и навозная прель. И мерно жующие, и шумно вздыхающие, совсем как он сам на молебнах, животные. Подносили ему ковшик парного молока, и он, перекрестившись, выпивал его, ощущая при этом нечто вроде томления. Ни к овцам, ни к свиньям, ни на конюшенный двор царь Иван не заглядывал. Только к коровкам, которых он любил за их незлобивость и какую-то домашность. То была единственная его привязанность.
Здесь, в хлеву, он испытывал успокоенность и животную смиренность.
Были, однако, на скотном дворе и другие хлевы, в которых содержались быки числом около полутысячи. Они в основном предназначались на убой. Но туда царь Иван тоже не заглядывал. Это была скотина норовистая и опасная даже с кольцом в ноздре. Эти живые мясные туши загодя вызывали в нем отвращение. Иван был великопостник и никакой убоины не ел. Быки, словно чуя приближенье смертного часа, голосили отчаянно. Их басовые и баритональные рулады вызывали у слабенького царя невольную дрожь. Он затыкал уши и норовил поскорей нырнуть к коровкам. Но и те порою, слыша голошенье возможных мужей, отвечали им нежным призывным мычаньем. Скотники и окольничьи, сопровождавшие своего повелителя, неизменно растягивали рты в улыбке и каждый раз произносили одно и то же:
— Ишь ты, скотина, а чувства имеет.
А порой добавляли:
— Хотитца им, страсть как хотитца. Иной раз корова на корову залазит навроде быка. А в стадо выпущают всего двух, смирных. Их отдельно держат. Ну покроют они трех-четырех, а хотитца-то всем. Сильно серчают остальные, наскакивают друг на дружку. Умора!
Так царь Иван получал понятие о жизни и смыкался с народом. А народ глядел на него с сожалением. И меж собою поговаривал:
— Царь-государь-то у нас совсем того… Плох. Глаз не подымает.
— Плох-то он, плох, а царица, слышно, опять брюхата.
— Верно, бычок у ей завелся, бычок разлюбезной.
— Ха-ха-ха!
В Бозе усопший царь Федор тоже любил Измайлово. И желал его всяко украсить. А потому повелел возвести по углам царских хором четыре сторожевых башни. Не успел лицезреть свою затею в камне — помер. Достроить казал царь Иван. Прежде чем навестить своих коровок, он наведывался на стройку. Выносили кресло с двуглавым резным орлом, обитое красным штофом, ставили его в отдалении, царь садился и иной раз часами глазел, как трудятся каменщики. Возле выстраивалась целая команда челяди, готовой к услугам. Они тоже глазели. Набегала царица Прасковья, каждый раз с недоуменным вопросом:
— Опять сидишь, государь мой? И на кой ляд эти махины ставлены! Лучше бы церкву подняли во имя Покрова Богородицы.
Иван отвечал степенно:
— Это строение не бабское, а мужеское. Для безопасности нашей.
«Нет, и бабское, — про себя кумекала царица. — Живет в одной бабка Агафья, сторожит нашу с Васенькой безопасность. Служит башня для утех любовных, до поры верно служит, хранит сию тайну».
И бабка Агафья, тороватая на сплетни, заперла свой язык на замок. А ключ отдала царице. Царица же за этот ключ расплачивалась щедро: соболями да куницами, материями разными, перстнями золотыми. Только бабке наказывала строго-настрого:
— Ты сие богатство никому не вздумай казать. Сразу подозренье возымеют: откуда-де такое награжденье?
— Ни-ни, матушка государыня, я сестрице своей ношу, а она человек верный. Да иными и подторговывает. Безо всякого урону.
— Смотри у меня, ежели что… Сама сгину и тебя сгною.
— Рази ж я не понимаю, матушка государыня, милостивица наша. Заперта я, заперта, и на дыбе не проговорюсь, а лучше помру в муках и без покаяния. — И истово крестилась при этом.
— Завтра в полудень, как пушка бабахнет, впустишь Васю моего. А после и я пожалую.
— Нешто можно тебе, голубица? — всполошилась бабка. — Ты ведь тяжела. Как бы плод не примять.
— Еще можно, срок невелик. Одна у меня радость в сей жизни — Васенька, Васютка.
И, говоря это, царица вся светилась нутряным светом любви. Затворницею была в девках, как все боярские дочери, света Божия не видела, ровно в тюрьме. Недаром терем и тюрьма столь звуками похожи. Затворницею осталась в царском дворце. Все богатое, все позлащенное, все завидуют, а кабы знали, как тяжко быть царицею при увечном царе. Будто сослана в церкви да монастыри, и все иконные лики снятся, и все гугнивое пенье в ушах застряло, и все дух ладанный, елейный запахи перебивает. А ведь она молода, молодость же рвется на свободу, жаждет испытать все радости жизни, дотоле неведомые. Свободы же нет, как не было.