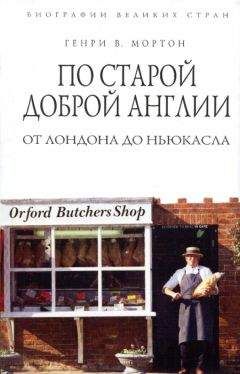Бедный Альберт был рад встрече с семьей, но эта радость не могла изгнать чувство скорой разлуки с Викки, и от этого он с каждым днем выглядел все более унылым.
Состоялся парадный ужин, специальное представление «Макбета» в Театре Ее Величества в честь бракосочетания и, наконец, большой бал.
И вот наступил великий день. Он напомнил мне мою собственную свадьбу. Так много событий произошло с того дня, когда я и Альберт поженились. С тех пор я сильно изменилась — из легкомысленной любительницы развлечений, считавшей танцы до утра верхом блаженства, я превратилась в королеву моей любимой страны, мать девяти детей — Альберт многому меня научил. Скольким я была ему обязана. Скольким вся страна была ему обязана! Как бы я прожила все эти годы без него! Неудивительно, что чувства переполняли меня; это были счастливые чувства. Но Альберт был несчастлив. Он не мог вынести мысли о разлуке с дочерью.
В этот день я проснулась рано утром и сразу же написала записку Викки. Писать было так легко: мне всегда было легче выразить свои мысли на бумаге. Я писала ей о важности брака, о том, что это святой и тесный союз, который, по моему мнению, значит намного больше для женщин, чем для мужчин.
В то время как я одевалась, пришла Викки. Она с чувством поцеловала меня и поблагодарила за письмо. Она подарила мне брошь с прядью своих волос и сказала, что постарается быть достойной меня, что меня глубоко тронуло. Она пожелала одеваться в моей комнате, чтобы я осмотрела ее туалет. Как восхитительно она выглядела в белом шелковом платье с кружевом. Вошел Альберт, и с нас сняли дагерротипный портрет. Все было так трогательно, что я не могла стоять спокойно, и портрет получился довольно расплывчатым. А потом настала пора ехать.
Когда мы направлялись из Букингемского дворца в Сент-Джеймский, улицы были заполнены народом, приветствовавшим нас. Это было так похоже на другой день восемнадцать лет назад — и в то же время так непохоже. В такой день не уйти от воспоминаний. Вместо Викки я видела себя, молоденькую наивную девочку, быть может, более наивную, чем она.
О да, столько перемен! Меч нес лорд Пальмерстон, и я не могла не вспомнить моего бедного дорогого лорда Мельбурна, как он гордился мной в тот день. Я вспомнила, как он взглянул на меня со слезами на глазах и потом сказал: «Вы проделали все великолепно, мэм». Как это меня тогда поддержало. А теперь настал черед Викки.
Я была рада увидеть маму, которая выглядела прекрасно в лиловом бархате с отделкой из горностая и лилового и белого шелка. Мама умела выбрать королевские цвета! Я вспомнила, сколь плохи были наши отношения до моего замужества. И как все изменилось! Альберт — и быть может, мама тоже — научили меня быть более терпимой, и мы теперь были намного счастливее! Самой большой радостью для мамы были дети; она их очень любила и, когда они не слушались, просила не наказывать их, потому что ей было невыносимо их жаль. Со мной же она была совсем другой! Я никогда не забуду уколы остролиста, который меня заставляли носить под подбородком.
Рядом со мной были Артур и Леопольд. Я внушила им, какой это был торжественный момент и как они должны хорошо себя вести. На них это произвело должное впечатление.
Потом я увидела, как вошла Викки, по одну руку от нее был Альберт, а по другую — дядя Леопольд. Фритц выглядел очень бледным и взволнованным.
Было так умилительно видеть их уже новобрачными, выходящими под звуки «Свадебного марша» Мендельсона.
Затем мы вернулись в Букингемский дворец и вышли на балкон, под которым собралась приветствующая нас толпа. Это был замечательный день, день смятения чувств. Позже юная чета отбыла в Виндзор на несколько дней своего медового месяца.
День отъезда Викки быстро приближался. Мне не хотелось, чтобы он наступил, потому что я знала, как тяжело будет нам с Альбертом перенести прощание с дочерью. Правда, иногда мне не хотелось ее присутствия на наших уютных ужинах, но все же она моя дочь; и то, что она теперь стала замужней женщиной, сблизило нас. Я начала волноваться, как сложится ее жизнь в Пруссии. Дома ее избаловали, и я не была уверена, что новая семья будет обожать ее так же, как мы — вернее, как Альберт.
Когда пришла пора прощаться, дети горько плакали, а я хоть и пыталась, но удержать слезы не смогла. Альберт выглядел изнуренным, нездоровым и прямо-таки убитым горем. Он сопровождал их до Грейвзенда, где они должны были сесть на пароход. Он, как мог, оттягивал момент расставания.
Когда экипаж отъехал, пошел снег, и я сквозь слезы наблюдала, как падали снежинки, и думала, как быстро прошло время и вот моя дочь уже замужем. Когда вернулся Альберт, я увидела, насколько он потрясен разлукой. Я пыталась утешить его, говорила, что я разделяю его скорбь, но он мне не верил. Он помнил мою ревность к дочери. Он считал, что это его личная потеря. Он хотел запереться и тосковать в одиночестве, но я не позволила ему. Он выглядел настолько больным, что я знала, что должна разделить с ним его скорбь.
Я вошла к нему в комнату. Он сидел за столом и писал, я знала кому. Слезы струились у него по лицу. Я подошла и, обняв его, прочла через его плечо:
«Мое сердце переполнилось, когда ты положила головку мне на грудь и дала волю слезам. Я сдержан по природе, и поэтому ты едва ли можешь представить, как ты всегда была мне дорога и какую пустоту оставил твой отъезд в моем сердце; и все же не столько в сердцеведе ты будешь пребывать как всегда, но в моей повседневной жизни, где все будет напоминать мне о твоем отсутствии».
Такое письмо мог бы написать возлюбленный… но Альберт любил Викки… любил глубоко… как, может быть, он никогда не любил никого другого.
Я не думала об этом. Викки не было с нами, а Альберт был мой муж; я должна была его утешить, разделить его скорбь.
— О Альберт, — сказала я, — станем утешением друг другу. И мы, обнявшись, заплакали.
Я писала Викки каждый день. Я чувствовала, что ей следовало многое узнать. По ее ответам я поняла, что замужество казалось ей сплошным блаженством.
Я жаждала откровений, подробного отчета о каждом дне ее жизни. Как они обходились с ней, эти пруссаки? Ценили ли они честь, оказанную им союзом с британской королевской семьей? Относились ли они к ней с должным уважением?
Викки отвечала с некоторой осторожностью. Она любила Фритца, и поэтому все было хорошо.
Я считала необходимым предостеречь ее. Я писала ей, что даже самые благородные из мужчин в семейной жизни эгоисты. Они ждут от женщин подчинения, и иногда это бывает унизительно. Я встревожилась, когда услышала, что Викки беременна.
Альберт так беспокоился, что в конце мая поехал в Пруссию убедиться, что с Викки все в порядке. Он вернулся немного успокоенный — Викки здорова и с нетерпением ожидает рождения ребенка в январе.
В августе мы с Альбертом побывали у нее. До родов оставалось пять месяцев, и Викки выглядела вполне здоровой. Было так хорошо опять быть с ней, хотя я предпочла бы видеться с ней наедине, чтобы мы могли поделиться своими переживаниями. Единственный раз в жизни я тяготилась присутствием Альберта. Я сказала Викки, что хотела бы быть с ней при рождении ребенка.
— Это право самой бедной из матерей.
— Но вы, милая мама, не самая бедная. Вы — королева.
Я вздохнула и удовольствовалась тем, что дала Викки некоторые советы, предупреждая ее, но не внушая ей излишнего беспокойства об ожидающем ее испытаний. Вспоминая свой собственный опыт, я думала, как все это унизительно. Почему природа не додумалась до какого-нибудь другого способа воспроизведения человеческой породы? Почему в жизни женщины должны быть периоды, когда она походит на животное… например, на корову.
Когда мы вернулись, я ежедневно продолжала писать Викки. Альберт посоветовал мне воздержаться.
— Неужели ты не понимаешь, что утомляешь ее этой постоянной перепиской? — спросил он. — У нее хватает забот. Она не может отвечать на все твои письма. За ней хороший уход. Она не нуждается в твоих советах.
— Мне кажется, — возразила я, — ты только один хочешь ей писать. Он вздохнул.
— Штокмар мне сказал, что если ты будешь продолжать писать и вмешиваться в ее жизнь, то это может повредить здоровью нашей дочери.
— Очень печально, — сказала я, — когда ты пишешь человеку, несмотря на усталость и все трудности, и тебе говорят, что это его тяготит.
Альберт принял вид спокойного, но несколько утомленного родителя и назвал меня своим милым ребенком.
— Викки старается приспособиться к чужой стране. Ей сейчас нелегко. Прошу тебя, любовь моя, постарайся понять.
— А ты думаешь, я не понимаю? Разве я не думаю о ней каждый день и каждый час? Подобный разговор возобновлялся.
Разумеется, я стала писать Викки реже, но беспокойство мое не уменьшилось. Странно, но теперь я была ближе к ней, чем когда она была с нами.