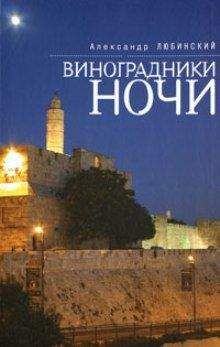— Откуда ты взялся здесь, шони? — Из воды показалось смеющееся лицо девушки, ее голубые лучистые глаза смотрели на Гау смело и прямо.
— Что ты на меня уставился, шони? — Она разразилась смехом. — Уходи! Уходи! А то я закричу!
Гау повернулся и пошел. Ноги плохо повиновались, ему хотелось еще хоть раз взглянуть на девушку.
— Уходи, уходи, шони, а то я, правда, закричу!
Что-то в ее голосе заставило Гау остановиться.
— Правда закричу, так и знай, шони! — смеялась девушка, хлопая руками по воде.
Не решаясь повернуться, не в силах слышать более ее голоса, не то призывного, не то насмешливого, Гау сорвался с места и побежал прочь. Уж не привидение ли это? Уж не померещилась ли ему эта девушка от голода, зноя, усталости?..
А девушка все не выходила из воды, ей казалось, что сван еще там, на берегу. Потеряв, наконец, терпение, она окликнула его. В ответ — молчание. Тогда она робко двинулась к берегу, прикрывая руками грудь. Когда вода была ей по пояс, она внимательно оглядела берег, убедилась, что сван ушел, быстро добежала до куста, схватила платье, висевшее на нем, и натянула его на себя. Отжав волосы, она взмахом головы красиво разбросала их по плечам. Сейчас, оттененное ярким, кизилового цвета платьем, лицо ее казалось еще более загорелым, глаза более глубокими и лучистыми.
«Откуда только этот медведь забрел сюда? — думала она о сване, идя кукурузным полем. — Заблудился он, что ли?»
Это было то самое кукурузное поле, откуда Гау попал к заводи. Девушка полола там кукурузу и перед полдником всегда купалась в реке. Она выбрала этот уголок, потому что туда не только человек, но и скот никогда не забредал…
Село пряталось между высоких холмов, отсюда узким потоком выбегала река, русло которой затем постепенно расширялось Холмы, покрытые фруктовыми деревьями, виноградниками, посевами ржи и кукурузы, были окрашены сейчас, в близости заката, в нежно-розовый цвет. Обычно с наступлением сумерек село оживлялось — возвращавшаяся с работы молодежь с веселым говором, смехом и песнями уходила в узкие улочки и переулки. Дома и плетеные хижины, весь день как бы дремавшие, пробуждались ото сна. Юноши и девушки спешили умыться и поужинать, чтобы поскорее встретиться друг с другом. Затем снова воцарялась тишина: ведь любви не нужны ни слова, ни песни — ничего, кроме сердечной близости.
После битвы в Кулеви с Махмуд-Гассаном в селе долго не слышно было ни песен, ни смеха. По возвращении с работы девушки уже не спешили к избранникам своего сердца: ни один юноша не вернулся назад из Кулеви. Застывшим в горе девичьим сердцам было теперь не до пенья, не до веселья, и за последние два года Циру была в селе едва ли не первой девушкой, прервавшей работу по велению сердца…
Циру, идущей по сельской улочке, казалось, будто все девушки спешат сейчас домой. Она и сама не знала, ради чего так торопится, но в поле остаться она не могла: в ее ушах неотступно звучала та полузабытая песня, какой сердца призывают друг друга. Она почему-то решила, что шони ждет ее дома. Мысль эта так сильно овладела ею, что она невольно ускорила шаг. А когда вбежала во двор, у нее чуть не подкосились ноги: под платаном, за покрытым столом, спиной к дому, сидел сван и с аппетитом ел.
— Что это за человек, мама? — спросила девушка у матери. Та сидела у порога и лущила кукурузу.
— Это шони, детка, он ищет работу. Просил пустить его на ночь, а когда я взглянула на него, сразу поняла, что дело не в ночлеге, он просто очень голоден…
— Как же ты пустила в дом чужого человека? — намеренно громко сказала девушка.
Гау положил обратно поднесенный ко рту кусок.
— Как же я могла отказать ему, дочка? Ведь даже врагу, если он голоден, уделяют кусок!
Девушка стояла с мотыгой на плече, не отводя глаз от матери. Кажется, никогда еще она так не любила ее. Но на свана она не решалась взглянуть. Впрочем, он и так крепко запомнился ей: выше среднего роста, широкий в плечах, ладно скроенные чоха и архалук, сдвинутая на затылок серая войлочная шапка, упрямый лоб, густые брови, большие глаза, устремленные на нее, Циру, с восторженным удивлением.
— Ой, какой он смешной! — внезапно воскликнула девушка и расхохоталась.
— Кто смешной, девочка? — От неожиданности мать даже перестала лущить кукурузу.
— Да он…
— Кто он, дочка?
— Да он же, мама! Если бы ты только видела, как он смотрел на меня! — Отбросив мотыгу, Циру вбежала в дом и со смехом бросилась на тахту. — Как он смотрел, какие у него были глаза! — воскликнула она сквозь приступ неудержимого смеха.
— Циру, дочка, — встала над ней испуганная мать. — Что это случилось с тобой? Кто смотрел на тебя, кто был смешной?
Циру вскочила с тахты, схватила мать за талию и закружила ее по комнате.
— Ой, ты тоже смешная, мама! И я смешная, самая смешная, глупая, сумасшедшая!..
— Пусти меня, дочка, у меня кружится голова! С ума сошла моя дочь!
— Верно, мама, я сошла с ума! — В открытую дверь девушка глянула на Гау, тот по-прежнему сидел спиной к дому, и она с трудом удержалась, чтоб не броситься к нему. — Что мне делать, мама, скажи… со мной такое творится! — Отпустив мать, Циру выбежала из комнаты и, перескочив через забор, помчалась по дороге. Мать с тревогой следила за ней, пока она не вскрылась за дальними деревьями.
А Циру все бежала, не зная, куда и зачем. Перед глазами ее стоял сван. Она бежала все быстрее и быстрее, боясь, как бы образ его не растворился в сгущавшихся сумерках. Колени у нее подгибались, она почувствовала слабость во всем теле и в изнеможении опустилась на траву. Легла на спину. Высоко в небе, над самой ее головой сияла полная луна. И на бледном серебристом диске луны Циру увидела огромное лицо. Широко раскрытые глаза… Горящие, взволнованные, такие же, как там, у реки… Циру не выдержала их взгляда, прикрыла глаза рукой. И все же, сквозь пальцы, глядела на лунный лик.
— Шони… шони… — шептала она. — Как зовут тебя, парень? — Сердце ее неистово билось, и она прижала к груди руку. Но разве можно успокоить сердце! Она вскочила и опять побежала, шепча про себя с неизъяснимым чувством все то же слово: шони, шони, шони…
«Кто он такой, этот шони?! Я не знаю его, и он не знает меня. Что свело меня с ума? Да разве это имеет значение, кто он такой? Шони… шони… шони…»
Она бежала по деревенской улочке. А с серебряного лика луны глядел на нее сван. «Шони! Шони!» — улыбалась ему Циру.
Остановилась Циру у калитки дома, стоявшего в конце проселка, и только сейчас поняла, что именно сюда она и стремилась. Хотя хозяева уже спали, девушка, переводя дыхание, негромко позвала:
— Пуцу!
Вскоре дверь заскрипела, на балкон вышла женщина и пристально вгляделась в темноту.
— Это я, Циру…
Пуцу в одной рубашке направилась к калитке.
— Что ты, Циру? Что-нибудь случилось?
— Скажи, Пуцу, когда ты в первый раз увидела своего Гуджу, он не показался тебе смешным?
Пуцу так поразил этот странный вопрос, да еще среди ночи, что она не сразу нашлась, что ответить.
— О чем ты спрашиваешь меня, Циру, дорогая? Зачем ему было быть смешным?
— А какой же он был?
— Какой? Самый хороший, лучший из всех… — Красивое, молодое лицо Пуцу озарилось улыбкой.
— Так почему же… шони такой смешной?
— О каком шони ты говоришь, Циру?
— Ну, а потом? — допытывалась Циру, не отвечая. — Что с тобой было потом?..
— Понравился он мне…
— А что еще было? Ну, понравился… А потом что? А потом ты убежала?
— Что ты, Циру, зачем мне было убегать!
— Но тебе не было смешно?
— А что в этом смешного?
— Значит, ты не убежала и не смеялась? А мне вот смешно. — И Циру опять безудержно расхохоталась.
— Перестань, Циру, — прижала ее к сердцу Пуцу. — Ты просто влюблена.
— Ой, правда! — воскликнула Циру. — Скажи мне, Пуцу, а когда Гуджу посмотрел на тебя, что с ним сделалось?
— Я ему тоже понравилась.
— А как ты узнала об этом?
— Он смутился и не мог выдержать моего взгляда…
— А что еще было с ним?
— Лицо у него покраснело, как бурак…
— Ой, и с ним так было, Пуцу!
— С кем? Скажи, наконец, с кем, Циру?
— Да с шони, с шони…
Гау лежал под платаном на бурке, подушкой ему служил свернутый мешок. Несмотря на усталость, он не мог уснуть: все мерещился ему образ девушки. Тщетно закрывал он глаза, ворочался с боку на бок, сон упорно не шел к нему. Мог ли он думать, что в это время, скрывшись за платаном, над ним стоит сама Циру и не сводит с него глаз…
«Что это так тревожит его?» — спрашивала она себя, трепеща от страха, что сван услышит, как бьется ее сердце. И вдруг Гау поднял голову и присел.
— Чего ты хочешь от меня, девушка? — сказал он как бы про себя, и в голосе его слышалось отчаяние. — Пожалей меня!
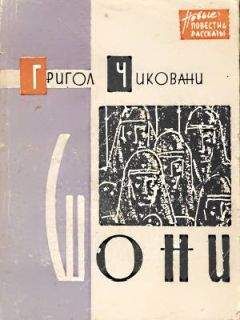

![Якуб Колас - Трясина [Перевод с белорусского]](https://cdn.my-library.info/books/150440/150440.jpg)