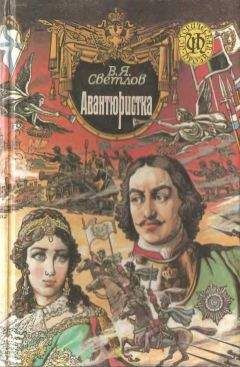Солдаты шагали, покуривая трубки. Они перекидывались изредка словами, иногда грубыми шутками, заставлявшими краснеть Марью Даниловну.
Фельдмаршал сидел в своей палатке на простой деревянной табуретке и курил трубку.
Перед ним, на другой табуретке, стояла кружка пива, доставленного ему в бочке из только что взятого русскими Мариенбурга.
Был ранний час утра, но, несмотря на это, он с наслаждением выпивал уже третью кружку и наполнял едким дымом табака палатку.
Невдалеке от него сидел за убогим столом молодой офицер.
Фельдмаршал Шереметев, отпив пива из кружки, сказал своему ординарцу:
— Достань последнее царское письмо, полученное нами, и прочти его. Соответственно оному следует отписать царю о нашем походе.
Офицер порылся среди бумаг, лежавших на столе, достал большой лист синеватого цвета, откашлянулся, вгляделся в крупные и неровные каракули царского письма и не особенно бойко прочитал его:
«Есть возможность, что неприятель готовит в Лифляндию транспорт из Померании в десять тысяч человек, а сам, конечно, пошел к Варшаве, теперь истинный час — прося у Господа сил помощи — пока транспорт не учинен, поиском предварить…»
— Так, довольно, — прервал чтение Шереметев.
Офицер вопросительно взглянул на него.
— Что писать прикажете? — спросил он фельдмаршала.
— А ты не торопись. Торопливость в таком деле негожа.
И он погрузился в думу.
Но ответ царю не складывался в его уме, и фразы, обыкновенно так легко сочинявшиеся им, на этот раз закапризничали.
— А что в царском письме дальше? — спросил он, чтобы выйти из затруднения и дать себе время.
Офицер опять взял синюю бумагу и, недолго порывшись, чтобы отыскать место, на котором остановился, прочел:
«Разори Ливонию, чтоб неприятелю пристанища и сикурсу своим городам подать было невозможно…»
— Так! — прервал фельдмаршал, очевидно, надумав ответ. — Теперь приготовься…
— Готов.
— Пиши же: «Чиню тебе известно, что Всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь…» Всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь… Написал ли?
— Написал.
— …«Пресвятая Богоматерь желание твое исполнили. Больше того неприятельской земли разорять нечего, все разорили и опустошили без остатку… И от Риги возвратились загонные люди и от самой границы польской; и только осталось целого места…» Написал ли?
— Написал.
— И «целое место» написал?
— Половину… «места» еще не дописал.
— Пиши… А коли готов, пойдем дальше: «целого места Пернов и Колывань, и меж ими сколько осталось около моря, и от Колывани к Риге, около моря же, да Рига, а то все запустошено и разорено вконец. Пошлю в разные стороны отряды калмыков и казаков для конфузии неприятеля…» «Конфузию» написал?
— Пишу.
— Изобрази. Пиши дальше тако: «Прибыло мне печали: где мне деть взятый полон? Тюрьмы полны и по начальным людям везде; опасно того, что люди какие сердитые, сиречь пленники! Тебе известно, сколько уже они причин сделали, себя не жалея; чтобы какие хитрости не учинили: пороху в погребах не зажгли бы; также от тесноты не почали бы мереть; также и занее на корме много исходит; а провожатых до Москвы одного полку мало. Вели мне об них указ учинить». Коли устал, отдохни малое время. Еще буду говорить тебе.
— Повели продолжать, Борис Петрович, все одно, одним духом скончать.
— Ну, так пиши! Еще немногое осталось. Пиши: «Больше того быть стало невозможно: вконец изнужились крайне, обезхлебили и обезлошадели, и отяготились по премногу как ясырем и скотом, и пушки везть стало не на чем, и новых подвод взять стало неоткули…» Конец. Ставь подпись. Поставил?
— Поставил.
— Ан, врешь, не конец! Еще вспомнил. Пиши. Э, братец, что там за шум? Будто женские голоса… Что это, право, отписать царю не дадут. Сходи, узнай-ка, кто шумит, и накажи всех — тех за шум, а этих за попущение к оному. А откуда также в лагере у нас женщины?
Офицер вышел, а фельдмаршал выпил остаток пива из кружки.
Офицер вскоре вернулся.
— Ну, что же там?
— Полковник Никита Тихоныч Стрешнев с казаками привели к тебе двух женщин.
— А что мне делать с этими двумя женщинами?
— Про то не ведаю. Они — немецкие пленницы.
— Зови сюда Стрешнева, коли так.
По приходе Стрешнева фельдмаршал спросил его:
— Ты что тут шумишь со своими пленницами, Никита Тихоныч? И что это за пленницы?
В это время в палатку его казаки ввели Марту и Марию Даниловну.
Обе женщины уже успели привести себя несколько в порядок. Лица их уже не носили прежнего выражения утомления. Яркий румянец играл на щеках Марии Даниловны, но Марта была все еще бледна, и хотя глаза ее уже не были красны от слез, но в них все еще стояло выражение глубокой печали.
Полковник с тревогой следил за взором фельдмаршала, но, к своему удовлетворению, увидел, что глаза Шереметева с особенным интересом остановились на Марте и довольно рассеянно и равнодушно скользнули по лицу Марьи Даниловны. Очевидно, она не произвела на него особенного впечатления, несмотря на всю свою красоту. Полковник этому очень обрадовался потому, что сердце его было уже покорено чудными глазами пленницы.
— Почто же ты их взял в плен, Тихоныч? — спросил фельдмаршал. — Нешто ты воевал с бабами? — засмеялся он.
— Нет, Борис Петрович, не с бабами. А так как в том мариенбургском кабачке, который стоял у городских стен, увидел я среди немцев вот эту русскую, Марью Даниловну, то и пришло мне вдомек, как она туда к ним попала и нет ли тут какой хитрости.
— Пороху в погребах бы не зажгли? — рассмеялся Шереметев, вспоминая слова своего письма к царю. — Ну, так что же мы теперь с ними будем делать?
— Как укажешь.
— Допросил ли ты ее? — спросил фельдмаршал, кивнув головой на Марью Даниловну.
— Допросил.
— И что же оказалось?
— Ничего, Борис Петрович, — смущенно ответил полковник. — На ней никакой вины нету.
— Ну, так отпусти ее или оставь ее у себя в услужении.
Она уже согласилась на это, — поспешно проговорил полковник, взглянул на Марью Даниловну и уловил ее лукавый взгляд.
— Переведи ей, — сказал Стрешнев Марье Даниловне, — что говорит фельдмаршал.
Марья Даниловна нагнулась к Марте и передала ей предложение Шереметева.
Марта ничего не ответила, презрительно пожав плечами. Ей, очевидно, было теперь все равно, что бы ни сделали с нею.
В это время вошел офицер, писавший письмо к царю, и доложил фельдмаршалу:
— Тотчас прибыл гонец с царским указом. Вот он. Велишь прочесть?
— Читай!
Офицер сломал печать, вынул из обложки письмо и стал читать:
— «Если не намерен чего, ваша милость, еще главного, изволь не мешкав быть к нам; зело время благополучно, не надобно упустить; а без вас не так у нас будет, как надобно. О прочем же изволь учинить по своему рассуждению, чтоб сего Богом данного времени не потерять».
— Так. Стало быть, надлежит мне отправляться к царю и Ладогу, — проговорил радостным голосом Шереметев. — Устал я тут с немцами бой водить. — И вдруг, обратившись к Стрешневу, он твердым голосом прибавил: — Уведи свою пленницу, а другую оставь здесь. Я повезу ее в Ладогу… Представлю ее светлейшему князю Меншикову, давно он выражал желание иметь прислужницу из немок. И лицо у нее благообразное и любезное.
Стрешнев поклонился и вышел, чтобы передать Марту на попечение шереметевского денщика.
Обе женщины простились у палатки.
Марья Даниловна подошла к Марте.
— Прощай, — сказала она ей. — Наши дороги расходятся. Бог знает, увидимся ли когда-нибудь. Благодарю тебя, что приняла меня вчера ночью, обогрела и накормила. Я за себя не боюсь, — гордо прибавила она. — И не я буду служить Стрешневу, а он станет моим холопом. А вот тебе будет худо… Если когда-нибудь понадобится тебе мое покровительство, обратись ко мне, я тебе помогу. Может быть, когда буду знатной, возьму тебя к себе в услужение — тебе у меня хорошо будет… Прощай покуда!
Марта вскинула на нее свои голубые глаза…
Что-то смутное прошло по душе ее. С появлением этой женщины в таверне начались ее несчастья, пришло известие о гибели ее мужа и совершилось взятие ее в плен русскими. Вот теперь отправляют ее в далекий город, и она должна будет навсегда расстаться с этим городом, который стал ее родиной, с людьми, которые приняли ее, сироту, в свой дом, дали ей кров, приют и любовь.
Как все это далеко теперь! И ничего, ничего не осталось у нее из прежнего, кроме вот этой странной красавицы иноземки, да и та скоро исчезнет из ее глаз, и Марта сделается совсем одинокою.
— Прощай, — сказала она Марье Даниловне почти с грустью.
— Помни, — повторила Марья Даниловна еще раз, — я готова всегда оказать тебе покровительство.