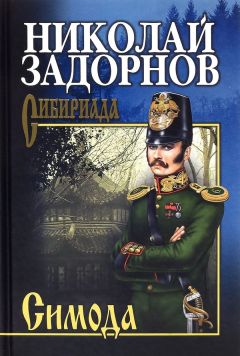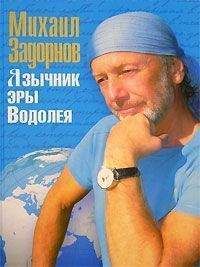Больше уступать и терпеть, чем Алексей, вряд ли возможно. Оюки приятна ему, может быть, и ждет. Хотя вряд ли. Около нее – общество! Она ему чужда. Забавна она, мила, конечно. И все! Никаких нечистых поползновений он не позволит. Никаких развлечений. Признавался, что-то фанатическое было в его характере... Он мог служить идее или своему решению с истовостью. «Я и так всегда уступаю!» – сказал себе Сибирцев.
– У нас много земли, – говорил мичман Зеленой.
Сразу разговор утек совсем в другую сторону по ряду офицеров, шедших гуськом за адмиралом.
– Мы им строим судно – вот наша уступка!
– Уйти немедленно и прервать переговоры!
Мысли и фразы тем отрывистей, чем сильней устаешь. Жарко, горы – то вверх, то вниз.
– Они очень умело шантажируют китайцев, – говорили сзади. – Провокация, а затем наказание и насильственный ввоз опиума как штраф... Сделал тот, кто выиграл.
Другой голос говорил о Пьющих Воду, как один матрос принес рис в такую семью.
– И в Англии это есть, – сказал Путятин. – Но не Пьющие Воду, там и воды такой нет, как здесь... «Дышащие Воздухом»! Так называются батраки, изъезженные старые кони, костистые и обычно рослые, изношенные люди, с волосами, как пакля, харкающие кровью или угольной пылью. Кроме права дышать воздухом, у них нет никаких прав. Их дети, подрастая, пополняют собой лондонские тюрьмы и трущобы. «Дышащие Воздухом», господа!
Все смутились и умолкли. Адмирал перебил весь разговор про Японию.
«...Морозные окна в иглистых льдах, за ними в голубизне зимнего вечера льды Невы. Сильные девичьи руки пробегают по клавишам, и жадно ждешь музыки, угадывая ее за первыми таинственными аккордами».
Путятин молчал. Память о переговорах еще была свежа. Голова высвободилась на время, и можно запросто поговорить на пешем переходе в лесу со своими офицерами, которых как бы впервые видишь, – так отчуждало все эти годы Евфимия Васильевича заботившее дело.
Он сам полагал, что в Императорской гавани надо строить порт и город. Но центр нового края должен быть южней, где-то близ гавани Посьета, где бухты не замерзают либо замерзают ненадолго. Но для этого надо выговорить себе права, вернуть те земли. Только там!
Но нельзя мечтать, а тем более говорить про это офицерам. Их рассуждения на эту тему – распущенность, маниловщина! Почему? На этот вопрос Путятин в мыслях не желал бы отвечать. Он знал, почему...
– Когда два десятка артисток танцуют и подхватывают все свои арсеналы шелков и кружев до подвязок и их общее форте до крика, что-то ошеломляющее, а все вместе грациозно и пикантно...
– Да, какое зрелище! Скажите!
– А вы знаете, что у японцев гейши исполняют сцены раздевания догола...
– Вы видели?
– Нет. Но Кавадзи обещал показать.
– Это, может быть, в Европу надо перевезти, и там открыть кабаре с гейшами.
– Как будто европейских артисток нельзя научить! Им же не много осталось снять...
Туники и диадемы, верховая езда, балы и опера, рождественские вечера – все это трогательно и интересно. Верочка выросла в деревне. В детстве она бегала без надзора с детьми крепостных, даже ездила верхом поить крестьянских лошадей. Она развилась в деревне. Любила читать рассказы Тургенева и даже сказала однажды Алексею, что вот, мол, во многих книгах изображается светская жизнь или битвы, воинственные подвига, великие преобразования, а как бедны мыслью многие такие книги по сравнению с рассказами Тургенева о ничтожных, казалось бы, рабах. Какой высоты современной мысли достигает Тургенев в изображении бедных крестьян! И у него в рассказах, как это ни странно, простор уму.
Да, это был их милый мир, может быть, бедней, чем мир «света», но в котором, как в рассказах Тургенева, был простор для мысли и чувства.
На повороте дороги встретились лейтенант Энквист, матросы Маточкин и Рудаков и мецке Танака. Матросы и японцы встали в ряд и вытянулись. Энквист рапортовал.
Путятин спросил про Лесовского.
– Степан Степанович был болен. Сегодня первый день как встал. Дорогу дальше размыло, надо идти вниз и по берегу под обрывом. Александр Сергеевич там ждет, приготовлены баркасы.
Японцы уже известили Лесовского и Мусина-Пушкина, что посол приближается и что он с успехом заключил договор. Они придавали большое значение прибытию посла и намекали офицерам, что надо устроить торжественную встречу.
– Хотели сами устроить церемонию, но мы взяли на себя...
– А где Степан Степанович?
– Он упал на стапеле, чуть спину не сломал и отлеживался эти дни.
Адмирал велел задержаться матросу Маточкину. Энквист пошел вниз с Посьетом.
– Что у вас нового? – спросил Путятин.
– А вот пойдете на шлюпке, ваше превосходительство, так все увидите. Климат тут плохой. Онемеют голени, все болеют.
– А в лагере?
– Все пока слава богу... Все живы.
– А корова дает молоко?
– Корова доится. Только Пушкин арестовал Берзиня и отставил от дойки.
– Как? – остолбенел Путятин. – За что же?
– Не могу знать.
– Кто же за ней ходит?
– Да все!
– Что же с капитаном?
– Был в жару, да сегодня уже поправился, но доктор не велел выходить из дому, а он уж кричал... Я слышал...
– А Колокольцов работает?
– Они также на квартире у старосты и вместе работают хорошо.
– У старосты? – переспросил Путятин.
Оставалось каких-нибудь полверсты, и пока их идешь, еще можно чувствовать себя простым человеком.
– Алексей Николаевич, и почему вы все стараетесь знакомиться с японками, а нет у вас дружбы с самими японцами?
«Вы сами ведь тоже не с англичанами дружны, а англичанку выбрали!» – хотелось ответить Леше.
– Вот я... японцам посоветовал лучших и самых разумных плотников отправить в Европу или Америку учиться. Это будущие инженеры и строители новой Японии. Так?
– Да, так точно, Евфимий Васильевич!
– Почему же ни у кого из вас нет дружбы с ними? Посмотрите в будущее. Уйдем и будем хвастаться победами над дамами!
– А вы подружились с кем-нибудь из японцев, Евфимий Васильевич? Они ведь народ уклончивый...
– А японки не уклончивы? Я когда-то дал вам приказание и совет, еще на корабле, обучаться японскому языку у Гошкевича. Тогда вы на меня посмотрели, как американцы говорят, с синим видом, а теперь благодарны мне. Японский язык еще как вам пригодится! Хотя и не всегда для дела! Вот теперь я даю вам совет: подружитесь с молодым энергичным японцем, у которого есть будущее. Это нужно и вам, и России! Ведь вам придется жить с соседями. Вот отец Махов подружился с бонзами, Гошкевич – с докторами и учеными. Азию надо изучать. Из-за невнимания к азиатским странам, из-за нашей провропейской устремленности, из-за неумения отличать великие страны Азии и великие цивилизованные народы от племен, обитающих в лесах, мы можем быть ввергнуты в ужасные несчастья. Какая-то, мол, отсталая цивилизация... Подумаешь, столько-то ей тысяч лет! А мы Европа, с пушками и с театрами. Конечно, хорошо, певицы хорошие, и балет есть. Но знать, изучать, увидеть, найти в каждом народе то, что заслуживает уважения... И тогда не будет неожиданной резни, не прорвется веками накопленная обида. Дружите. Изучайте. Знайте. И жандармы для вас не помеха. Им надо объяснить, у них тоже есть головы на плечах.
– Есть ли? – сказал все тот же Зеленой. – Как я рад!
– Степан Степанович хороший! – говорил Маточкин. – Вернулись и все о нас заботятся. И все подавал пример, купался в холодном море и нас уговаривал. Выйдет из воды и стоит на ветру, не торопится, пока денщик вытрет его полотенцем. А придет в казарму и чихнет. Глухарев говорит: «Вы нездоровы, ваше высокородие, не заболейте от купанья. Сейчас не время». – «Много ты, старый дурак, понимаешь! Это полезно для здоровья. Идя на войну, моряку надо закалиться». Пока холодно было, и ему обходилось. А стало теплей, он упал на стапеле и сразу слег. Горел, говорят, как в огне, бредил и все призывал плотников, кричал: «Спасите меня!..»
«Упал, анафема, с доски, – думал про себя матрос – Может, кто-то подстроил живодеру!»
«Да уж известно, что могло присниться, если не знал, выживет ли! – подумал Путятин. – Возможно, теперь стихнет».
За деревьями открылась бухта. Все вышли на берег.
Около двух шлюпок стояли матросы в киверах и с ружьями. Четырехугольником построился духовой оркестр и сияет медными начищенными трубами. Гребцы сидят в баркасах и держат весла вверх.
«Вот и конец отдохновения души!» – подумал Путятин. Предстояло снова стать грозным адмиралом, морским королем и всех забрать в свои руки, в жесткие рукавицы.
Воздуха много, горы расступились, солнце сияет в голубом воздухе, Фудзи растаяла, в небе висит лишь одна ее шляпа.
В шлюпке Путятин встал от удивления. В ущелье Быка площадь застроена, по ущелью сделана лесотаска со спуском бревен на веревках, край которых намотан на блоки внизу, и вверху, на горе, что-то вроде подъемного шкафа на американском пароходе, но без паровой силы. Стоит стук, грохот, звенят молоты, свистят пилы.