Утверждению этому были свидетелями прошедшие поколения, и, поставив на него свою жизнь, Цицерон, наконец, показал себя достойным тех идеалов, которые всегда стремился защищать. Однако существовали и другие не менее древние традиции, которые он отразил в своих речах. В общественной жизни Республики партийная принадлежность всегда принимала свирепый характер, и «трюки» политической риторики оказывались непростительными. В нападках Цицерона на Антония подобные «трюки» достигли своего апофеоза. Возвышенные призывы к оружию чередовались с грубейшими оскорблениями, рассыпанными по речам Цицерона карикатурами на пьяного Антония — блюющего мясом, гоняющегося за мальчиками, лапающего актрис. Нападки были злобными, мстительными, несправедливыми — однако помеченными печатью свободной Республики, утверждавшей за каждым гражданином право говорить все, что заблагорассудится. Дело в том, что Цицерон давно ощущал, что ему затыкают рот. И теперь, исполняя свою лебединую песню, он пел, не зная стеснения. Пел так, как умел лишь он сам: взмывая к высотам и — прямо в следующее мгновение — срываясь с них в грязь.
Однако его слова, подобно несомым ветром искрам, еще нужно было раздуть — а на это Цицерон мог надеяться, только прибегнув к темному и освященному временем искусству политической интриги. Полководцев Цезаря следовало перессорить между собой и натравить на Антония, — так делалось на протяжении всей истории Республики, когда знать поднималась на тех, кто добивался чрезмерного могущества. Гиртию и Пансе, и без того уже завидовавшим Антонию, особого поощрения не требовалось, однако Цицерон не был удовлетворен обращением на свою сторону назначенных консулов, но и вербовал еще более впечатляющего союзника. Всего лишь несколько месяцев назад он прохладно встретил Октавиана; теперь, на исходе 44 года до Р.Х., немногие — а тем более Цицерон — могли так рисковать.
Даже боги благословили молодого Цезаря внушительным свидетельством своей милости. Когда Октавиан под безоблачным небом впервые въезжал в Рим, вокруг солнца появилось радужное гало. Потом, по прошествии трех месяцев, произошло еще более знаменательное явление. Когда Октавиан проводил игры, посвященные памяти убитого отца, над Римом заблистала комета. Взволнованные зрители называли ее возносящейся к небесам душой Цезаря. Сам Октавиан, усмотревший в появлении кометы предзнаменование собственного величия, публично признал это. Так и следовало поступить: стать сыном бога значит получить недурное повышение в чине — даже для наследника Цезаря. «Ты, парень, обязан всем собственному имени»,[281] — ехидничал Антоний. Однако если фортуна действительно баловала Октавиана, то он обнаруживал умение мастерски распоряжаться ее дарами. Переигранным оказался даже такой прожженный популист, как Антоний. Он воспротивился требованию передать казну Цезаря для выплаты обещанных людям сумм; в то время как Октавиан, не колеблясь, продал несколько своих поместий и заплатил требуемое из полученных средств.
Наградой ему послужила особенная популярность — не только среди горожан, но и среди ветеранов Цезаря. Занявшись набором воинов вместе с Антонием, Октавиан скоро получил в собственное распоряжение личный — и полностью нелегальный — отряд телохранителей численностью в три тысячи человек. С помощью этого войска он на короткое время оккупировал Форум, и хотя ему скоро пришлось отступить перед существенно превосходящими силами Антония, он оставался ощутимой угрозой для планов своего соперника.
Но год уже подходил к концу, заканчивался и срок полномочий Антония. В отчаянной попытке сохранить за собой основу власти, консул отправился на север и, перейдя Рубикон в обратном направлении, вступил в Галлию, где объявил себя наместником провинции. Путь его перекрывал один из убийц Цезаря, Децим Брут, также претендовавший на этот пост. Вместо того чтобы уступить провинцию Антонию, Децим предпочел забаррикадироваться в Модене и пересидеть там зиму. Продвигавшийся вперед Антоний вознамерился голодом изгнать его из города. Так началась столь долго назревавшая новая гражданская война. А пока два прежних подручных Цезаря бодались, наследник диктатора обретался в их тылу. Не отдавая предпочтения ни одной из сторон и скрывая свои амбиции, он являл собой угрожающий и непредсказуемый фактор.
Сам он открыл свою душу одному лишь Цицерону. Октавиан не перестал обхаживать старого государственного деятеля после первой их встречи. И Цицерон, по-прежнему подозрительно относившийся к столь лестному вниманию, мучительно боролся с тем искушением, которому подвергал его Октавиан. С одной стороны, он стенал, обращаясь к Аттику: «Только посмотри на его имя, на его возраст!»[282] Как мог Цицерон принять наследника Цезаря как такового, когда молодой авантюрист посылал ему бесконечные просьбы о совете, именовал «отцом» и настаивал на том, что и он, и его сторонники служат Республике? Но с другой стороны, если положение и так стало настолько отчаянным, то что еще можно потерять? К декабрю, получив известия с севера о начале войны, Цицерон наконец решился. Двадцатого числа он выступил с речью в зале Сената, до отказа заполненном людьми, и, продолжая настаивать на уничтожении Антония, законного консула, потребовал, чтобы Октавиан — «да, еще молодой человек, почти мальчишка»[283] — получил право набирать личную армию и был удостоен лестных общественных почестей. На сомнения сенаторов, бесспорно весьма удивленных таким предложением, Цицерон возразил, что Октавиан уже предоставляет Республике блестящие перспективы. «Гарантирую вам это, отцы-сенаторы, обещаю и торжественно клянусь!» Конечно же, как превосходно знал и сам Цицерон, возражения его были чрезмерными. Тем не менее даже в приватной обстановке он не проявлял особого цинизма в отношении перспектив Октавиана. Кто мог сказать, как проявит себя молодой человек, сидевший у ног его, внимавший его мудрости, впитывавший древние идеалы Республики? А если Октавиан, невзирая на все старания Цицерона, окажется его недостойным учеником, тогда всегда найдется способ разделаться с ним, когда представится соответствующая оказия. «Молодого человека следует похвалить и прославить — а потом вознести до небес».[284] В точности, как Цезаря, иными словами.
Конечно же, это была неосторожная шутка, из тех, за которые в прошлом Цицерона уже отправляли в самое пекло. Она передавалась из уст в уста, и в итоге достигла ушей Октавиана. Цицерон, однако, просто пожал плечами: в конце концов, Октавиан являлся всего лишь одним из членов собираемой им коалиции, причем даже не самым важным. В апреле 43 года до Р.Х. оба консула римского народа, Авл Гиртий и Вибий Панса, наконец, выступили против Антония. Октавиан с двумя легионами шел в качестве их помощника. В двух последовавших друг за другом битвах Антоний потерпел поражение и был вынужден отступить за Альпы. Известие о двойной победе, пришедшее в наполненный ожиданием Рим, казалось, окончательно оправдывало рискованную политику Цицерона. Великий оратор, как и в год его консульства, был провозглашен спасителем своей отчизны. Антония официально объявили врагом народа. Казалась, что Республика спасена.
Однако новые гонцы принесли в Рим и горькие вести. Оба консула погибли: один — в сражении, другой — от ран. Вполне понятно, что Октавиан отказывался от любого примирения с Децимом Брутом. Антоний ускользнул, воспользовавшись всеобщим смятением. Армия его теперь уходила вдоль побережья, за Альпы, в провинцию другого помощника Цезаря, Марка Лепида. Армия «начальника конницы», насчитывавшая семь легионов, представляла собой внушительную силу, и то, чью сторону она примет, становилось, по мере приближения Антония, поводом для самого серьезного, даже отчаянного беспокойства. В письмах к Сенату Лепид уверял его лидеров в своей безграничной верности — однако его люди, закаленные цезарианцы, уже решили иначе. Братание между армиями Антония и Лепида 13 мая завершилось формальным заключением союза между двумя полководцами и соединением их сил. Децим Брут, оказавшись перед лицом противника, имевшего огромное численное превосходство, попытался бежать, но был предан вождем галлов и убит. Армии Сената растаяли с удивительной быстротой. Положение Антония, еще несколько дней назад считавшегося беглецом, еще более укрепилось. Теперь Рим от него закрывал лишь молодой Цезарь.
Чью же сторону примет Октавиан? Столица гудела, подогреваемая слухами, и пыталась угадать ответ. Ждать пришлось недолго. В конце июля в Доме Сената вдруг появился центурион из войска Октавиана. Он потребовал от собрания предоставить еще свободный пост консула своему полководцу. Сенат отказался. Тогда центурион откинул назад свой плащ и положил руку на рукоять меча. «Если вы не хотите сделать его консулом, — предупредил он, — тогда ему поможет вот это».[285] Так и случилось. Цезарь вновь перешел Рубикон. Но теперь армия Октавиана насчитывала восемь легионов, и противостоять им было некому. Охваченный мукой при виде погибели всех надежд, Цицерон вышел вместе со всем Сенатом приветствовать победителя. В отчаянии он предлагал Октавиану новые идеи и планы. «Октавиан, однако, не ответил, если не считать насмешливого замечания, что Цицерон последним из друзей вышел приветствовать его».[286]
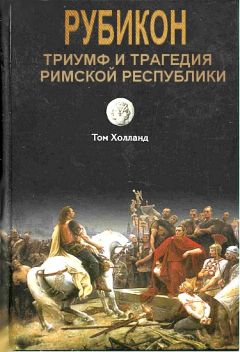
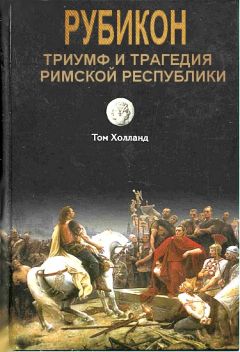


![Дана Белл - Стальная красота [ любительский перевод]](https://cdn.my-library.info/books/151362/151362.jpg)
