Чью же сторону примет Октавиан? Столица гудела, подогреваемая слухами, и пыталась угадать ответ. Ждать пришлось недолго. В конце июля в Доме Сената вдруг появился центурион из войска Октавиана. Он потребовал от собрания предоставить еще свободный пост консула своему полководцу. Сенат отказался. Тогда центурион откинул назад свой плащ и положил руку на рукоять меча. «Если вы не хотите сделать его консулом, — предупредил он, — тогда ему поможет вот это».[285] Так и случилось. Цезарь вновь перешел Рубикон. Но теперь армия Октавиана насчитывала восемь легионов, и противостоять им было некому. Охваченный мукой при виде погибели всех надежд, Цицерон вышел вместе со всем Сенатом приветствовать победителя. В отчаянии он предлагал Октавиану новые идеи и планы. «Октавиан, однако, не ответил, если не считать насмешливого замечания, что Цицерон последним из друзей вышел приветствовать его».[286]
Получив разрешение — а может приказ — оставить Рим, оратор удалился на свою любимую сельскую виллу. Строительные работы на ней были завершены, однако ничего более не могло поправить погибшую карьеру ее владельца. Она была закончена — и не только она одна. Цицерон с немым отчаянием следил за возвышением своего протеже. 19 августа еще не достигший двадцатилетия Октавиан был официально избран консулом. После этого, добившись осуждения убийц Цезаря как предателей, он оставил Рим и отправился маршем на север, прямо навстречу наступавшей армии Антония и Лепида. Между соперничавшими предводителями цезариан, сделавшимися безусловными господами всего запада империи, войны не произошло. Напротив, Антоний и Октавиан встретились на речном острове возле Модены, перед своими армиями, выстроившимися на обоих берегах реки; полководцы обнялись и расцеловались. А потом вместе с Лепидом они уселись делить мир и провозглашать смерть Республики.
Безусловно, цель свою они замаскировали благовидными и знакомыми словами: утверждали, что не произносят некролог Республики, а восстанавливают в ней порядок. Но на самом деле они казнили ее. В результате проведенной на острове встречи, при всеобщем согласии, был провозглашен новый триумвират, но не свободный и переменчивый, как между Помпеем, Цезарем и Крассом. На сей раз он был создан на официальной основе и наделен грозными полномочиями. В течение пяти лет триумвирам была предоставлена проконсульская власть над всей империей. Они имели право по собственной воле предлагать и аннулировать законы, не интересуясь мнением Сената или римского народа. Военное законодательство было распространено на священную территорию самого Рима. Так закончились более чем четыре века римской свободы.
Кончина Республики подобающим образом была скреплена и подписана кровью. Триумвиры объявили политику милосердия, которую проводил когда-то их погибший предводитель, ошибочной и обратились за вдохновением к его предшественнику-диктатору. Возвращение в Рим проскрипционных листов предваряли мрачные и многозначительные предзнаменования: собаки выли по-волчьему, волки пробегали по Форуму; с неба доносились громкие крики, звон оружия и топот незримых копыт. Списки были повешены через несколько дней после вступления триумвиров в город. Присутствие в них тех или иных имен определялось бесстыдными сделками среди триумвиров. Решения их, более прочих, определял один-единственный фактор: триумвират отчаянно нуждался в средствах, необходимых на содержание более шестидесяти легионов. В результате богатство, как это было при Сулле, вновь стало причиной смерти. В списки попадали даже изгнанники, такие как Веррес, наслаждавшийся своими неправедными приобретениями в солнечном изгнании; его убили, как говорили тогда, за его «коринфские бронзы».[287] Некоторых убивали по партийным соображениям, чтобы устранить потенциальных противников нового режима, другие становились жертвами личных ссор и раздоров. Самым ужасным образом, в качестве доказательства своей преданности триумвирату, Антоний, Лепид и Октавиан принесли в жертву людей, которых в других условиях обязаны были бы спасти. Так случилось, что Антоний согласился на преследование своего дяди, Лепид — брата, а Октавиан тем временем занес в списки имя человека, которого некогда звал «отцом».
Однако Цицерон вполне мог спастись. Известие о его внесении в проскрипционные списки пришло к нему раньше наемных убийц. Тем не менее по своему обыкновению он запаниковал и принялся раздумывать о том, что теперь делать. И вместо того, чтобы немедленно отправиться под парусом к Бруту и Кассию, собиравшим на востоке внушительную освободительную армию, он принялся в отчаянии метаться с виллы на виллу, преследуемый уже знакомой ему тенью изгнания. Как учил его Катон, в конце концов существуют худшие кошмары, чем смерть. Застигнутый, наконец, палачами, Цицерон высунулся из носилок и подставил горло под меч. Это был жест гладиатора, которым он всегда восхищался. Потерпев поражение в величайшей и самой смертоносной из всех игр, великий оратор бестрепетно принял свою судьбу. Он умер так, как, вне всякого сомнения, хотел умереть: отважным мучеником свободы и борцом за свободу слова.
Это понимали даже его враги. Когда наемные убийцы принесли его отрубленные голову и руки, Фульвия, вдова Клодия и жена Антония, поторопилась позлорадствовать. Схватив зловещие сувениры, она наплевала на голову Цицерона, и, вытащив язык, проткнула его булавкой для волос. И только всласть поиздевавшись над мертвецом, она передала голову, чтобы ее выставили перед народом. Руку, писавшую великие речи против Антония, также пробили гвоздями. Умолкший и пронзенный язык, выставленный напоказ перед римским народом, тем не менее оставался красноречивым. Цицерон был несравненным политическим оратором Республики — а век ораторов и свободной политики пришел к своему концу.
Через год после учреждения триумвирата последние надежды на восстановление свободной Республики погибли под македонским городом Филиппы. Загнанная в угол Балканской равнины и едва не умирающая от голода армия цезарианцев вновь сумела спровоцировать врагов на сражение, имевшее фатальный исход. Брут и Кассий лишили Восток легионов, захватили власть над морем и заняли неприступную позицию; подобно Помпею на Фарсальской равнине, они могли спокойно дожидаться более выгодной для себя ситуации. И тем не менее оба они предпочли сражение. После двух невиданных по масштабу в римской истории битв сперва Кассий, а потом Брут пали на собственные мечи. В побоище погибли и другие знаменитые люди: Лукулл, Гортензий, Катон. Последний, сняв с головы шлем, устремился вглубь цезарианского войска, вслед за своим отцом предпочтя смерть позору рабства. Так поступила и его сестра. Остававшаяся в Риме суровая и добродетельная Порция ждала вестей из Филипп. Получив их и узнав, что и брат ее, и муж Брут погибли, она вырвалась из рук подружек, опасавшихся, как бы она чего не натворила, подбежала к жаровне и проглотила горячие угли. Эта женщина, в конце концов, также была римлянкой.
Быть римлянином. Но что это значило в государстве, лишенном свобод? Конечно, прежде по определению считалось, что свободу надлежит чтить превыше всего, даже больше жизни. А теперь даже героический (хотя и «неаппетитный») поступок Порции не нашел большого числа подражателей. Те, кто хранил верность идеалам Республики, теперь, когда тишина вновь воцарилась над Филиппами, по большей части пребывали в числе убитых. Утрату таких граждан невозможно было восполнить, и прежде всего из-за огромных потерь среди представителей высшей знати. По мнению римского народа, в жилах наследников знаменитых родов текла сама история города. Вот почему пресечение существования знатных семейств всегда считалось поводом для общей скорби — и именно поэтому гибель целого поколения знати, выкошенного или руками палачей, или мечами солдат в пыльной и обильной мухами Македонии, стала сокрушительным ударом для Республики. Пролита была не только кровь — утрачено нечто большее…
Среди победоносных триумвиров с наибольшей ясностью это ощущал Антоний. Он стал взрослым в ту пору, когда слово «свобода» было еще чем-то большим, чем простой лозунг, и поэтому вполне мог оплакивать ее смерть. Разыскав на поле брани при Филиппах труп Брута, Антоний почтительно прикрыл его плащом, приказал кремировать, а прах отослал Сервилии. Теперь, добившись власти, он не стремился ставить ее под сомнение новыми кровопролитиями. И чтобы не возвращаться в пораженную горем Италию как старший партнер в триумвирате, он предпочел оставаться на Востоке и исполнять роль Помпея Великого. Путешествуя по Греции и Азии, он предавался традиционным среди проконсулов Республики развлечениям: изображая поклонника греческой культуры, грабил греков, оказывал покровительство местным князькам, сражался с парфянами. Твердокаменные республиканцы воспринимали такого рода деятельность как вполне знакомую и обнадеживающую, и в месяцы и годы, последовавшие за Филиппами, остатки разбитой армии Брута постепенно стянулись к Антонию. С ним, пребывавшим на Востоке, отождествляли себя сторонники легитимности.
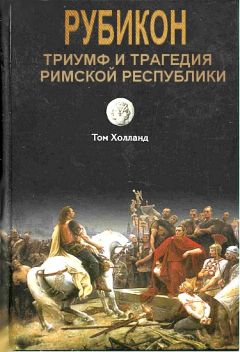
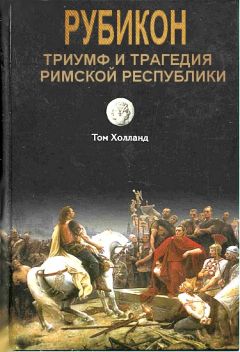


![Дана Белл - Стальная красота [ любительский перевод]](https://cdn.my-library.info/books/151362/151362.jpg)
