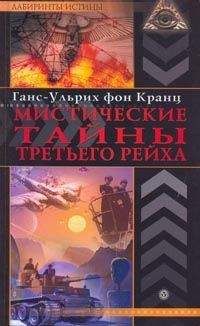— Ах, ты еще собираешься оставаться здесь и распоряжаться?! Ни одного дня, ни одного часа я тебя здесь больше не потерплю. Немедленно собирайся и прочь с моих глаз!
Эстонец попытался вскинуть голову. Голос его задрожал.
— Так… значит, теперь вы меня гоните прочь — когда все мое имущество погибло… когда я стал нищим.
— Твое имущество? Что же это ты принес с собой, когда пришел в Сосновое? С тросточкой ты пришел, голь перекатная!
Он выхватил из рук какого-то старика ореховый посошок и сунул его эстонцу.
— На — вот оно твое имущество! Каким пришел, таким и уходишь Убирайся, гадина, прочь!
Эстонец затрясся всем телом, борода его вздернулась вверх.
— А этих поджигателей и разбойников вы даже не пытаетесь схватить? Это преступление, я буду жаловаться властям!
Курт всплеснул руками.
— Люди, как вы думаете? Не подкинуть ли нам его над тем огоньком, чтобы ноги у него поразмялись?
Эстонец быстро посмотрел на дымящееся пепелище на месте своего дома, кинул взгляд на кузнеца, который стоял повесив голову, словно все это время ни разу и не шелохнулся. Вытянулся во весь рост, повернулся и направился мимо толпы.
— Нет, не по дороге!.. Дорога проложена для честных людей! Туда, в лес, как и все бродяги!
Не сказав ни слова, Холгрен повернулся и пошел прочь мимо замка, между рядами кирпичей и начатой постройкой. Казалось, фигура его съежилась, делаясь все меньше и меньше, пока, наконец, не исчезла в ельнике — как раз там, где за несколько дней до этого исчез кузнец Мартынь.
Курт обвел взглядом своих людей. Нет ни признака того, чего он ожидал. Ни малейшей радости, ни одного облегченного вздоха. Некоторые с сомнением, может быть, даже с сожалением поглядели вслед эстонцу, другие стояли угрюмо, повесив головы. Как по открытой книге можно было прочесть на этих лицах: душегуб, мошенник и вор, так-то оно так… Да зато знакомый и привычный. А вот, как знать, что будет теперь? Не появятся ли все же вместо пареных розог плетенные в Неметчине кнуты?.. Проклятый Ян-поляк, неужели же он все-таки окажется прав?
У Курта опустились руки и ноги подкосились, земля из-под них начала уходить. Он стиснул зубы, чтобы не выказать бессильного гнева и крайней растерянности. Спокойный, повернулся и пошел в замок. Какой-то словно бы заплаканный увалень в сапогах старого барона убрался с дороги. Сквозь опавший дым послышался протяжный стон — точно крик той совы в первую ночь в Лифляндии у атрадзенской корчмы.
Скорее, скорее прочь от этой бессмыслицы и разрушения!
Наконец, кузнец Мартынь шевельнулся, словно додумав до конца долгую важную мысль. Отстранив мать, нагнулся и поднял Майю на руки. Тело ее еще не совсем закоченело, голова и руки свесились через его плечо, рассыпавшиеся волосы прижались к его щеке.
Старый Марцис кивнул головой.
— Так, сынок, так… Понесем ее домой…
Один башмачок остался на столе. Дарта подняла его, заботливо отерла ладонью, следуя за сыном и не сводя с Майи глаз.
Марцис пошел поодаль, еще раз кивнув головой.
— Так, сынок, так…
Толпа тихо расступилась. Мартынь нес осторожно, глядя под ноги, словно боясь оступиться и разбудить ее.
В верховьях дожди, видимо, были еще сильнее, чем здесь. Даугава вышла из берегов: на этой стороне залила топь, на той — дошла почти до самого Фридрихштадта, который, казалось, спустился почти к самой воде. Два человека стояли там, будто забрели в воду, и вечернее солнце отбрасывало чуть не до середины медлительного потока их косые тени.
В устье атрадзенской мельничной речушки шла водоверть, ивовые ветви мокли в воде, у низкорослого лозняка только верхушки торчали над водой; лишь хорошенько прислушавшись, можно было уловить, как еле-еле шумят творила — воде и падать-то не приходится. Корчмарь не прислушивался к творилам — эка невидаль, у него было занятие поважнее. С паводками даже среди лета в устье заходила рыба, в мутной воде иногда попадался в верши неплохой улов. В это воскресенье корчмарь так разохотился до рыбы, что, подвернув штаны, уже в четвертый раз шлепал по затопленным мосткам к заколу, вытаскивал верши на берег, вытряхивал на траву и снова ставил обратно.
Видно, день был уж очень ясный, на этот раз ничего особенного не попадалось. В траве трепыхалась только одна крупная рыбина да с полдюжины совсем нестоящих щурят. Поэтому и рыбак стал таким рассеянным. Вот он только что забросил обратно вершу, хотя любой мальчишка заметил бы, что в хвосте ее сверкала свернувшаяся плотва. То и дело он поглядывал на ту сторону Даугавы, не то на стоявших на берегу, не то на город, словно чего-то ждал оттуда.
На тропке у самых мостков из тальника внезапно появилась корчмарка — видимо, жидовка, во всяком случае наполовину: черные жесткие патлы волос под завязанным на затылке платком, черные глаза навыкате, темное лицо, крючковатый нос, на голых ногах хоть репу сей.
— Ступай домой, там с водкой приехали.
Корчмарь ничего не ответил, прикрепляя вершу мочалом к заколу, даже головы не повернул. Да корчмарка и не ожидала никакого ответа — очевидно, так уж у них заведено. Собрала рыбу в передник, презрительно скривив губы. Не бог весть какой улов! Корчмарь не спеша вылез на берег. Еще поглядел через реку, дважды махнул рукой, видимо, отгоняя назойливую муху.
Тропка и без того сырая, а в кустах, где топкое место, так и хлюпало, жидкая глина колбасками выдавливалась между пальцами. Видимо, это было очень приятно, корчмарь нарочно искал, где поглубже, жмурил глаза, словно ему щекотали пятки. Длинные усы шевелились, он что-то бормотал про себя.
У коновязи стояли две телеги с огромными бочками. Бочки эти и лошадей корчмарь знал хорошо: приехали берггофские возчики с водкой, сводные братья Бренцисы, большой и малый. Они сидели в корчме, уже успев основательно приложиться к отпущенной на дорогу мерке. Большой, или настоящий, Бренцис с рыжеватой бородой, как всегда болтал без умолку и бахвалился, маленький — Бренчук, на редкость молчаливый, только удивительно белые зубы показывал сквозь свалявшуюся серую паклю бороды. Корчмарь пожал руку старым знакомым.
— В Ригу едете? Сено скошено? Добро. А как жито? Осыплется, пока вернетесь, нынче день-деньской парит, чистое наказание. Нанесет, нанесет дождичка — и опять парит.
— Пускай его парит, у нас не осыплется — у нас двор в лесу, не так, как у даугавцев, на каменье. Там уж наверняка в четверг принялись жать.
— Да, нынче на неделю, а то и на две раньше взялись, чем прошлый год: весна ранняя. Да ежели гонят то на барщину, то в извоз, все равно осыплется.
Бренцис пожал плечами.
— Лепечет, что дитя малое: на барщину! Да мы же водку отряжены возить. Раз в две недели с бочкой в Ригу, день и ночь туда, день обратно — а больше никакой барщины мы с ним не знаем. Так ведь, братан?
Бренчук только сверкнул белыми зубами. Корчмарь перевешивал мерки с крючка на крючок.
— Да, житье у вас воровское, беспечальное. Барон, верно, у вас хороший?
— Да ведь как сказать, кому как. Старый Сиверс был лучше, а только и с молодым жить можно.
— Пороть не велит?
— Пороть? Нет — он сам… Кнут завсегда за голенищем. Где попадешься: на покосе, в поле либо в овине, — отвозит по спине, ежели надо, и кончено. А не так, как в других имениях, где человека, что телку, тянут лупить на конюшню.
— Да не звени ты этими мерками, водку мы сами пьем сколько влезет. Нынче в имении гулянье, и барон — что твое солнышко. «Господин мастер, говорит, налей сегодня этим братцам по целому штофу с собой, а то все равно они его у меня в дороге сами выцедят из бочки…» Налей-ка ты нам лучше по кружке пенного. Прямо язык к глотке прилипает.
Корчмарь нагнулся к бочке, но глазами все равно косил назад.
— Да промочишь ты глотку, не бойся! Так гулянье, говоришь? И большое?
— Вчера было. Половина Видземе — ну, половины, может, и не наберется, но уж больше десятка гостей, верно, было. Одни господа, барыни ни единой. Люди в имении смеются: жениться собирается, что ли? А так он на эти юбки как шальной. Да ведь у господина и дела господские, что там говорить. Жить можно. «Воры вы оба, говорит, но я хоть знаю, сколько вы крадете. Поставлю чужого — кто мне скажет, сколько он отцедит из бочки?»
Корчмарь налил самого лучшего, пена в кружках вздувалась шапкой. Бренчук схватил свою еще нетерпеливее, чем этот болтун.
— И верно ведь: всегда лучше знать, чем не знать. Так вчера у вас было гулянье. А сегодня больше никого?
— Нет, один там еще торчит — такой, как цыган, красногубый, у него под носом только-только еще пробивается. Из Курземе он, что ли.
— Ага! Из Курземе. Ну, и что же это он один?
— Да так просто. Нашему завсегда надо с кем-нибудь опохмелиться.