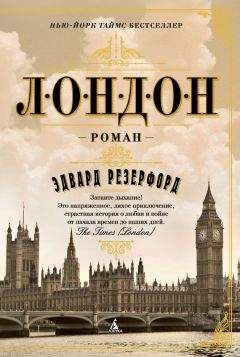Епископское поместье в Саутуарке отличалось масштабами. Подобно старинным частным уордам, некогда существовавшим в городе напротив, то было подлинное феодальное имение, в границах которого епископ вершил суд и правил как абсолютный властелин. А поскольку подобные полномочия именовались также вольностями и в данной юрисдикции находилась тюрьма Клинк, все поместье приобрело забавное название даже в официальных документах: «Вольность Кли́нка».
Вольностью Клинка правили на совесть, как и восемнадцатью борделями. Около полутора веков назад, еще при Генрихе II, епископ Винчестерский, тогда фактически являвшийся и архиепископом Кентерберийским, счел, что его бордели пребывают в плачевном состоянии. И вот, при содействии толкового помощника, он составил пространный перечень установлений для руководства оными, которые, будучи изложены на латыни и по-английски, сохранились для будущих поколений в епархиальной библиотеке. «Во славу Господа и в согласии с благонравными обычаями и установлениями страны» – так завершался документ. И правила эти в дальнейшем оказались столь превосходны, что, когда городу Лондону даровали право иметь официальные бордели на Кок-лейн, близ приорства Святого Варфоломея, там тоже установили эти епископские порядки, тогда как самих проституток по-прежнему в шутку именовали винчестерскими гусынями. Что же касается помощника архиепископа, то неизвестно, его ли лично следует благодарить за эти правила, однако в период их составления им был не кто иной, как великий лондонец Томас Бекет.
Но вот к девушке приближались владелец борделя с женой. Содержатель притона – крупный лысеющий человек с черной бородой, которая вечно казалось сальной; жена выглядела кубышкой, и ее широкое желтоватое лицо напомнило Джоан запотевший сыр. И в тот же миг, едва увидев их, она догадалась.
– Вы обещали… – пробормотала девушка.
Но те ухмылялись. Она была полностью в их власти.
И в отчаянии девушка огляделась. Весь замысел принадлежал сестрам Доггет, которые заверяли, что защитят ее. Не могут же они бросить ее сейчас? Тогда где же они?
– К тебе, дорогуша, клиент, – сказала кубышка.
Сестер Доггет в Саутуарке знали все. Одну звали Изобел, другую – Марджери. Впрочем, никто – даже хозяин «Собачьей головы», где они трудились, – не мог сказать, кто из них кто. Изобел и Марджери были однояйцевыми близнецами.
Обе высокие и жилистые, с густыми черными локонами, большими агатовыми глазами, крупными зубами и громкими голосами, при смехе на удивление зычными – вроде крика осла. И все же, благодаря стройным телам и довольно увесистым грудям, парочка казалась воплощением чувственности. А если этого было мало, чтобы выделиться, то у каждой имелась белая прядка волос.
Они всегда одевались одинаково, да и речь их тоже невозможно было отличить. В «Собачьей голове» сестры снимали соседние комнаты, где торговали телами, а по желанию клиента за скромную скидку могли составить трио, которое, если тому хватало сил, не распадалось всю ночь.
Сестры Доггет принадлежали к наводнившему Саутуарк малому племени, что было обязано своим существованием простой человеческой ошибке. Ибо восемьдесят лет назад, когда несчастный Адам Дукет утратил свободу лондонца, он сделал глупый выбор. Семья Барникель предложила ему помощь, но он, в обиде и злобе, отказался. «Раз не хотят отдать за меня дочь, я ничего у них не возьму», – гневно заявил он. Через месяц после суда Адам перебрался в Саутуарк и открыл торговлю, которая не задалась. Затем он работал в таверне, женился на разносчице и вскоре обзавелся выводком босоногих детей, гонявших по улицам. Так и вышло, что за одно поколение гордый род лондонских граждан опустился на дно, существовавшее во всех крупных городах мира с начала времен. Семейство сестер насчитывало пять человек, а кузин и кузенов было с дюжину. Все жили в Саутуарке, и все без исключения отличались жизнерадостностью, необузданностью и скверной репутацией.
Их называли Дукетами, кроме двух сестер, слава которых наградила их новой, цеховой фамилией. Близнецов знали так хорошо и до того прочно связывали с родным борделем, что ныне повсеместно именовали девушками из «Собачьей головы».[31] И это прозвище уже начало перерождаться в другую старую английскую фамилию, не сильно отличавшуюся от родовой: они стали Доггет. Дукеты, немного смущенные их репутацией, не расстроились из-за такой метаморфозы. Девушки встретили переименование с энтузиазмом и, таким образом, бесстыдно превратились в сестер Доггет.
Это была добросердечная пара, но превыше всего любившая авантюры. Поэтому, когда двумя днями раньше они застали Джоан в слезах у собора Святого Павла и заставили рассказать, в чем дело, ее история нашла у них живой отклик. «Мы должны ей помочь», – изрекли они хором. Марджери предложила дальнейшее или Изобел, но они составили замечательный план, которому сейчас следовала Джоан. Пусть и рискованный, до сей поры он воплощался безукоризненно.
Одна беда: в последний час они напрочь о ней забыли. Причина была связана с Марджери.
– Больно?
Сестры отправились в укромное местечко на склонах в миле от Бэнксайда, где горестно уставились на маленькую болячку.
– Жжет, – пожаловалась Марджери.
– Тогда дело плохо, – сказала Изобел. – Найдут.
Один раз в месяц всех девушек осматривал епископский бейлиф с помощниками. Тех, у кого находили какую-нибудь хворь, вышвыривали из Вольности. Не помогла бы, видно, и взятка. Большинство лондонцев считали благом то, что борделями управляла Церковь, ибо епископские осмотры отличались тщательностью. А Марджери испытывала жжение.
Это была форма сифилиса, хотя и не такая тяжелая, как напасть позднейших веков. Когда он впервые попал в Британию – доподлинно не известно; возможно, инфекцию заносили возвращавшиеся из походов крестоносцы, однако есть четкие указания на ее существование на острове еще с саксонских времен.
Но что им делать? Если Марджери изгонят из борделя, им будет не на что жить.
– Жаль, что король повыгонял евреев, – сказала она.
Если обитатели Бэнксайда имели единое мнение по какому-то поводу, то им была слава старого еврейского врача. Такие же воспоминания остались у многих лондонцев. Было ли дело в большем доступе к медицинским познаниям античного мира и Ближнего Востока или просто в лучшем образовании и меньшей склонности к суевериям, но еврейская община действительно поставляла лучших врачей. Старый еврейский доктор с Бэнксайда умел лечить жжение ртутью – только он, больше никто.
Еврейская община исчезла начисто. Неприязнь к евреям нарастала в Англии еще с антисемитских волнений при коронации короля Ричарда сто лет назад. Преследование усиливалось не по причине финансовой деятельности общины. Хотя некоторые мыслители Церкви и объявили получение процентов ростовщичеством, а следовательно, грехом, такое незнание основ экономики не было повальным даже среди духовенства. Окружение епископа и аббаты крупных монастырей широко пользовались еврейскими ссудами. Был случай, когда еврейским финансистам предложили, к их великому удивлению и веселью, святые мощи в качестве залога – те обеспечивали прибыльный наплыв паломников.
Но три обстоятельства сложились не в их пользу. Первым было то, что Церковь развернула против них долгую религиозную кампанию, распространившуюся на всю Европу. Во-вторых, они, как всякие кредиторы, снискали нелюбовь многих баронов и прочих лиц, погрязших в долгах. Третьим фактором был монарх. Правление Генриха III, сына короля Иоанна, растянулось более чем на полвека. Еще четверть уже отсидел на троне его сын Эдуард, и оба нередко испытывали нужду в средствах. Не было дела проще, чем взыскать их с евреев. Но это случалось столь часто и так люто, что лет десять назад разорились едва ли не все еврейские финансисты. Тем временем их место заняли христианские заимодавцы, в частности великие итальянские финансовые дома, находившиеся под опекой Ватикана. Вскоре король перестал нуждаться в евреях. И вот в 1290 году от Рождества Господа нашего король английский Эдуард I очень кстати проявил благочестие: аннулировал все оставшиеся долги и чрезвычайно порадовал папу изгнанием из островного королевства всей еврейской общины.
Увы, не осталось и врачей. Поэтому сестры Доггет, обдумывавшие свое положение тем ноябрьским утром, сочли его поистине плачевным из-за отсутствия ртути еврейского доктора. И совершенно забыли о маленькой Джоан, чью жизнь они полностью перевернули.
Мартин Флеминг сидел в камере тише воды ниже травы.
– Лучше бы тебе хорошенько помолиться, – сказал ему утром тюремщик.
Но сколько он ни старался, молитвы не складывались. Заключенный знал одно: завтра его повесят, несмотря на полную невиновность.
Мартин Флеминг был всего на дюйм выше своей возлюбленной и обращал на себя внимание в первую очередь фигурой. Ибо везде, где у нормальных людей были выпуклости, Мартин Флеминг щеголял вогнутостями. Впалая узкая грудь, а лицо так и вовсе напоминало ложку. Он был настолько тщедушный и гнутый, что порождал сомнения и в крепости своего рассудка. Мало кто знал, что в душе Мартин Флеминг – жуткий упрямец, который в случае нужды оставался непоколебим, как скала.