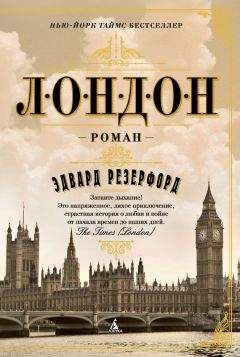Но с мэром обстояло иначе. Он назначался королевской хартией бессрочно.
– Теперь его у нас не отберут, – заверил Булл Силверсливза.
Был добавлен еще небольшой пункт – под номером 33.
«Все запруды на будущее время должны быть совсем сняты с Темзы и Мидуэя и по всей Англии, кроме берега моря».[29]
После сорока с лишним лет ожидания олдермен Сампсон Булл восторжествовал над королем.
Ища укрытия, Силверсливз двинулся тропкой, которая вела в деревню, где он прежде не бывал. Доехав до хижины, потребовал, чтобы его впустили. И лишь немного обсохнув, приметил в крестьянской семье, неохотно оказавшей ему гостеприимство, кое-что любопытное: белую прядку в волосах у отца. Он пробыл у них час, пока не закончился ливень, затем навестил управляющего поместьем, где находилась деревушка.
По возвращении тем же днем в Лондон Пентекост Силверсливз улыбался.
Жизнь Адама Дукета сложилась удачно. Теперь он был членом гильдии рыботорговцев – положение скромное, но почтенное. Конечно, случались и скорби: первая жена умерла при родах несколько лет назад, но у его старого покровителя Барникеля была на выданье дочь Люси. Они собирались пожениться весной.
Унылым ноябрьским вечером посыльный доставил в дом Адама Дукета на Корнхилле странные новости. Не просто странные – бессмысленные.
Его вызывали в суд – обязывали явиться в Гастингс в двухнедельный срок.
– Я ничего такого не натворил, – сказал он посыльному. – В чем дело?
Когда на следующий день в доме мэра все выяснилось, он не поверил своим ушам.
Старинный суд в Гастингсе обычно собирался по понедельникам. Заседания проходили в простом каменном особняке весьма скромных размеров, с крутой деревянной крышей, стоявшем в районе под названием Олдерменбери сразу за еврейским кварталом. Местность вокруг была намного более открытой, чем где бы то ни было. Здесь имелось несколько внутренних двориков, а окружавшие ее улицы странным образом изгибались. Пару поколений назад в этих строениях все еще различались контуры римского амфитеатра, однако теперь тот был совершенно забыт. Маленькое каменное здание суда, где собирались олдермены и мэр, называлось Гилдхолл.
И здесь, в Гилдхолле, имея при себе в поддержку Барникеля и Мейбл, Адам Дукет предстал холодным ноябрьским утром перед мэром и олдерменами Лондона. А также перед своим обвинителем – Силверсливзом.
Последние десять дней напоминали кошмарный сон. Обвинение явилось ниоткуда – от человека, которого он едва ли знал даже в лицо. Его обвинили не в преступлении. Дело оказалось намного непостижимее.
– Они говорят, что я не тот, кем себя считаю, – сказал он Мейбл, – а я не могу ничего доказать.
Адам старался. Даже поехал в деревушку близ Виндзора в тот же день, когда выслушал обвинение. Но, к его удивлению, дальние родственники, которых он в жизни не видел, и управляющий землевладельца подтвердили его вину.
– Хоть бы матушка была жива! – вскричал он. – Может, она что-то знала!
Но никто не мог ему помочь.
Силверсливз начал речь. Тощий, согбенный, он мог быть посмешищем, однако сейчас, очутившись целиком в своей стихии, стал на удивление внушительным.
– Обвинение, почтенные мэр и олдермены, весьма простое, – заявил он. – Перед вами стоит некий Адам Дукет, рыботорговец и якобы гражданин Лондона. Мой долг сегодня сообщить вам, что я уличил его в самозванстве. Да, это Адам Дукет. Но он не может быть гражданином сей благородной коммуны. – Силверсливз сопроводил это слово глубоким поклоном. – Ибо Адам Дукет – не вольный гражданин, а серв.
Знатные мужи Лондона утомленно вздохнули.
– Предъяви нам доказательства, – потребовали они.
Такие обвинения не были редкостью и звучали в лондонских судах на протяжении многих поколений. Теоретически – да, серв мог сбежать и жить в городе необъявленным год и один день; после этого он становился свободным. Но подобные беглецы попадались нечасто, и с ними, если у них не находилось денег, предпочитали поступать как с бродягами. Вдобавок у вольных граждан Лондона были семьи, нуждавшиеся в работе, и гильдии, подлежавшие защите. Это была гордая коммуна. Обычай же недвусмысленно таков, что вольные граждане не терпели присутствия в своей среде людей, находившихся в услужении. «Мы бароны, – говаривали они, – а не беглые сервы». Немыслимо, чтобы фактический серв выдавал себя за гражданина.
Тем не менее судейские уловили некое личное мщение и были настороже.
– Лучше ему быть понадежнее, твоему доказательству, – предупредил мэр.
Надежнее было некуда. Силверсливз быстро представил родственников Адама, доставленных из Виндзора. Затем – управляющего поместьем. Все они поклялись, что Адам владел земельными наделами, доставшимися от отца и предков, не на правах арендатора, а за трудовую повинность.
– Да, в точности, как мы, – заявил отец его кузена.
В известном смысле они говорили правду, ибо за годы его детства ни он, ни его мать не пеклись о своем владении, и родственники приобрели привычку выплачивать ренту не наличными, а трудом, оставляя себе небольшую прибыль. Что до управляющего, тот состоял в этой должности уже двенадцать лет, он знал о пребывании надела Адама в трудовой повинности, которую несли за него сородичи. Поэтому Адам, хотя и жил в Лондоне, фактически оставался сервом. Дело было мутное, сплошное крючкотворство, но в феодальном мире имели вес как раз такие мелочи.
– Мне говорили, что у меня есть кузены-сервы, но мы всегда были вольными, – возразил молодой человек.
И в самом деле, при посещении деревни он мог бы заручиться таким свидетельством у одного старика, когда бы тот не умер за неделю до этих событий.
Теперь Силверсливз сделал ловкий ход, достойный мастера. Его осенило несколькими днями раньше.
– Я даже справился с великой «Книгой Судного дня» короля Вильгельма, – буднично уведомил он суд. – И там нет ни слова о таком свободном владении. Члены этой семьи всегда были сервами.
Того, что полтора века назад спешивший клирик допустил в этом колоссальном труде одну из немногих ошибок и забыл записать предка Дукета вольным, Силверсливз не знал и знать не хотел.
Мэр безмолвствовал. Олдермены насупились. И тогда заговорил Сампсон Булл.
– Здесь что-то неладно, – проворчал он. – Отцом этого человека был Саймон-оружейник, уважаемый гражданин, – он строго посмотрел на казначейского клирика, – с которым, насколько я помню, Силверсливз был в ссоре. Если Дукет – сын Саймона, то он гражданин по праву, и точка.
Все облегченно переглянулись. Это дело не нравилось никому.
Но Силверсливз не зря занимал должность королевского клирика.
– Если Саймон был гражданином, – начал он, – то, может быть, незаслуженно. Но это всяко ничего не меняет. Ибо, почтенные мэр и олдермены, Адам Дукет обладает землей на правах трудовой повинности в этот самый момент. Он является сервом сейчас. – Силверсливз выдержал паузу, чтобы оглядеть их пристальным взглядом. – Или нам изменить древний обычай Лондона и сделать этого серва гражданином?
С этим не мог поспорить даже Булл. Дукет был сервом. Что до практичного предложения Силверсливза изменить священные обычаи Лондона, то стрела попала в цель.
Мэр взял слово.
– Я сожалею, Адам Дукет, – сказал он. – Дело скверное, и обвинить тебя даже не в чем. Но мы не можем считать сервов гражданами. Ты должен покинуть нас.
– Но как быть с моим промыслом? Я рыботорговец.
– О, боюсь, что тебе придется с ним расстаться, – ответил мэр. – Ты не гражданин.
Выйдя вон, Адам беспомощно повернулся к Барникелю и Мейбл.
– Что мне делать? – простонал он.
– Мы поможем, – пообещал Барникель.
– Но как же Люси?
И Мейбл, пусть даже ставшая ему второй матерью, выразила ясную волю Лондона.
– Это ужасно, Адам, – сказала она печально, – но теперь мы не можем выдать за тебя Люси. Ты не гражданин.
Так после долгого, очень долгого ожидания Пентекост Силверсливз свершил наконец свою месть.
Дела шли на лад, в том не было сомнений. Обозревая мир на семьдесят пятом году своей бесхитростной жизни, сестра Мейбл не могла не воодушевляться.
В Англии воцарился покой. После долгой борьбы между баронами и королем Иоанн внезапно скончался, оставив править под надзором совета малолетнего сына. Совет действовал хорошо. Великая хартия и ее свободы дважды получили подтверждение. В Лондоне был мэр. Если уклониться от королевского налога не удавалось, новая администрация, державшаяся подальше от войн за рубежом, все равно не особенно тратилась. «Мы не в разладе даже с папой», – бодро добавляла Мейбл.
Похорошел и Лондон. Самым ярким новшеством стала, вероятно, грандиозная фонарная башня, совсем недавно воздвигнутая над нефом собора Святого Павла. Соперничая с вытянутым, узким силуэтом здания, она придавала изящество и величие угрюмому массиву, который отчасти смахивал на амбар, громоздившийся над западным холмом. Но еще большее удовольствие доставило Мейбл то, что за последние три года в город прибыл религиозный люд двух ранее неведомых толков, не похожий ни на кого. Постройкой своих скромных обителей прямо сейчас занимались нищенствующие монахи: последователи святого Франциска – францисканцы, или монахи серые, и черные монахи – доминиканцы.