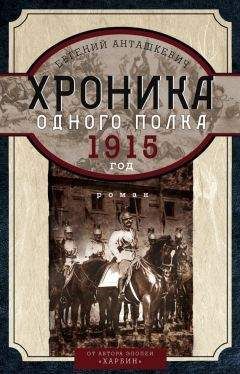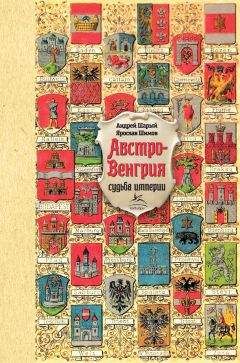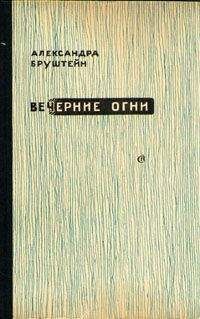Цельную неделю я думал, как ты уехал на войну и бумаги на это письмо перевел невесть сколько. Да как ни думали мы с матушкой, как ни прикидывал, а всё одно получается, ежели Марья затяжелила пока ты был, так ей одной с двумя будет тяжко справиться, а так, пусть Авеленок у нас и будет. Но это как она скажет. Потому ежли получишь от неё письмо за советом то сам и разсудишь, как жить-быть!
Кланяемся тебе всем миром нашим и желаим всего наилучшего на честном поле брани и ждем с победою всем селом. Марья может кого другого попросить письмо тебе написать потому и пишу тебе, штоб ты всё знал заранее. Мы с ней ищё об том не говорили. Пусть кормит пока.
Крещу тебя многажды и благословляю на ратный подвиг.
Отец Василий и матушка Агафья руку приложила.
Ноября 20-го дня сего 1915 года от Рождества Христова.
Декабрь был как декабрь, тёплый, снежный и мокрый. Полк зарылся в окопы.
Доктор Курашвили вышел из лазаретного блиндажа и пошёл в расположенную в версте берёзовую рощу, туда, где с кухней обосновался денщик Клешня.
Уже опустился поздний вечер, и германцы не стреляли.
Последние несколько суток они стреляли мало, но раненые всё же появлялись, они были не сложные, хотя и требовали отправки в тыл, но пока не подошёл транспорт, и со всеми заботами справлялись санитары.
Офицеры отпраздновали сочельник, но за картами ещё досиживали в блиндаже штаба полка, они выпили жжёнки и шумели, и это не устраивало доктора.
Отец Илларион и несколько драгун в возрасте держали Филиппов пост. Остальные, следуя христианскому канону: как странствующие, воинские защитники или беременные, поста не держали. Драгун особенно веселило уподобление себя беременным, они надували поджарые животы и ржали друг над другом, «аки кони». И жрать особо было нечего, дичь, которую нет-нет, да и стреляли драгуны и офицеры, не могла заменить казённого снабжения, а кони их не слышали, коней держали в трёх верстах отсюда в тылу в обозе II разряда.
Всё было как обычно, только не получалось остаться одному. Вчера Алексей Гивиевич вернулся из госпиталя Рижского укрепрайона. Буквально со стола начальника хирургического отделения он увёл свежую газету и сейчас хотел прочитать её в тишине и одиночестве.
Газета была не свежая, а свежайшая, большая редкость по нынешним временам, «Киевская мысль» № 353 за 21 декабря 1915 г. От цвета газетного листа, от запаха бумаги так сильно веяло мирным временем, что Курашвили затосковал и понял, что устал от главного, от суеты. Он показал газету офицерам, но никто не заинтересовался, только было сказано короткое: «Агитация». Было голодно, сыро, вода в окопах поднималась иной раз по щиколотку и никогда не уходила совсем. Ещё стало понятно, что от вшей избавиться уже не получится, так прочно эти мелкие вредные твари обжили всё то, что в окопах и землянках обжили драгуны. Дорогу до хозяйства Клешни доктор знал с закрытыми глазами: эту позицию, на южном краю огромного Тырульского болота, полк занимал уже почти два месяца.
Клешня расположился добротно. Под его хозяйство, «Клешнёву ресторацию», была выбрана старая берёзовая роща вперемежку со старым ельником, поэтому роща была густая, тёмная, а деревья высокие и кряжистые. Сильно в землю углубляться не стали, нашли поляну, сняли дёрн, застелили досками, сколотили между собой, а чтобы от походных кухонь и костров не дымило и не привлекало внимания германских артиллерийских наблюдателей, растянули между деревьями куски парусины. Маскировке помогали густые туманы, приходившие от болота с севера. Почти рай. Несколько шальных снарядов прилетели, но кроме шума, никакого вреда не принесли, поэтому полковая кухня считалась самым безопасным местом, и в этом качестве её все берегли. Вплоть до того, что старались не вытаптывать дорожек, поскольку в талом снегу они обозначались чёрными нитями, достаточными для единственного пролёта над этим местом германского разведывательного аэроплана. Хотя всё равно дорожки обозначились, эскадронные гонцы за едой перевозили двухвёдерные бачки на двуколке.
Было то ли темно, то ли нет – наверху непроглядное небо, а на земле белел снег.
Курашвили шёл и старался ни о чём не думать. Как только он начинал думать, то сразу вспоминал Татьяну Ивановну Сиротину, покойницу. И наступала пустота, и с этим ничего не поделашь.
О печальном событии Курашвили узнал из газет и наградных бюллетеней – «посмертно».
Ужас произошедшего немного смягчил рассказ Алексея Алексеевича Рейнгардта, вернувшегося в полк после излечения, но ничего невозможно было исправить, кроме того, что Курашвили наконец узнал, как зовут матушку Тани – Антонина Петровна. А то, что издохли Танины собачки, ведь он их видел, и вовсе было скверно. И Алексей Гивиевич решил, что если он выживет на этой войне, то или переедет к родителям в Питер, или в Москве снимет другую квартиру. И уж совсем в одну горькую точку на двоих сошлось то, что, когда в феврале начался обстрел крепости Осовец и ранило полковника Розена, полк стоял там, и Таня Сиротина была в крепостном лазарете. Рейнгардт тоже расстроился, когда от доктора подтвердилось, что он находился от Танечки так близко и этого не знал.
Перед выходом доктор густо намазал сапоги топлёным салом из железной банки, дал стонавшему раненному в голень в последней разведке Четвертакову успокоительное и двинулся.
Дорожки натоптали, и ориентироваться было легко. Он проходил заросли кустов, поляны; ещё ориентироваться можно было по запаху, низовой ветер нет-нет да и доносил запахи кухни, и как-то это всё витало между «Клешнёвой ресторацией» и окопами.
Через сорок минут доктор углубился в рощу и ещё через десять минут вышел к кухне. Клешня ему обрадовался.
– Алексей Гивиевич! – Клешня потянул с головы папаху. – С Рождеством вас Христовым, и вот жжёнки тут осталось, и закусить, не желаете?
За то время, пока стояли на краю Тырульского болота, Клешня совсем отбился от строя, поэтому вместо того, чтобы порядочно, как положено, откозырять, он стал снимать папаху, только что «челом не бил».
Курашвили отказался, он был сыт, но оловянную кружку жжёнки разрешил поставить рядом с собой.
Жжёнка была приготовления ротмистра Дрока. Была она, конечно, бедная. Негде было взять рому, шампанского давно забыли вкус, но в оставленных хозяевами немецких имениях нашлось много сушёных слив и яблок, варенья, Клешня под руководством Дрока всё это сбраживал, и получалось что-то шипучее, а сахарная голова на скрещённых драгунских шашках горела благодаря спирту доктора. Остывшая жжёнка была настоящей бурдой, поэтому Клешня, прежде чем предложить, несколько минут держал кружку рядом с печкой.
К Клешне даже был проведён телефон.
Доктор обставился светильниками из заплющенных снарядных патронов с маслом внутри, и в построенной из берёзовых лесин халупе стало светло, а от самодельной печки тепло.
Он полез за отворот шинели за газетой, но наткнулся на томик Чехова, он сначала вынул его и положил рядом, а потом газету.
– Это у вас что? – полюбопытствовал Клешня.
Курашвили посмотрел на денщика, ему совсем не хотелось разговаривать, и он покрутил сложенной пополам газетой.
– А, «агитация»! А на раскурку потом дадите? На распечку!
– Ну если только на распечку! – ответил Курашвили и подумал: «И даже не поинтересовался, что за газета, а сразу «агитация» да на «раскурку», в смысле на «распечку».
Газету хотел забрать, как он выразился – «изъять» у главного хирурга рижского госпиталя жандармский ротмистр Быховский, но Курашвили его опередил и сейчас посмеивался тому, что Быховский уже, наверное, начал «расследование». Газета привлекла внимание одной статьёй – и её-то и намеревался прочесть Курашвили. Статья называлась «Война и техника», она была подписана каким-то «Л. Троцким». Кто такой «Л. Троцкий», Курашвили не ведал, но если этим интересуется сам Быховский, значит, это должно быть интересно.
Курашвили надел пенсне, приладился к свету и углубился: «Война и техника» – прочитал он заголовок.
«После сорокачетырёхлетнего перемирия в Европе…» – Доктор отвлёкся. «Сорок четыре года… это какую же войну имеет в виду автор? – подум ал он. – Так, тысяча девятьсот пятнадцатый минус сорок четыре… – Он стал считать и загибать пальцы, и вышло: – Тысяча восемьсот семьдесят один, семьдесят первый! А-а, так это Франко-прусская».
«…Война привела в движение всю ту военную технику, которую за этот период милитаризм снимал, как сливки, с капиталистического развития. И Европа выдержала. Сколько раз говорилось, что новейшая техника доведёт войну до абсурда и тем сделает её невозможной. Этого не случилось. Война оказалась чудовищной, но не «абсурдной», т. е. не невозможной технически, наоборот – почти банальной. Старые правила тактики и стратегии отнюдь не оказались опрокинутыми. Если нужны были новые доказательства того, что невозможной может сделать войну не автоматическая техника, а сознательная человеческая воля, то это доказательство теперь снова дано, и человечество за него честно уплатило…»