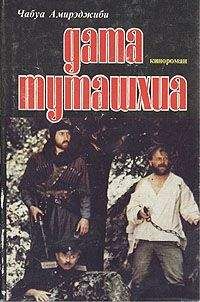Мадемуазель Жаннет де Ламье, приближающаяся к тридцатипятилетнему возрасту, была француженкой по происхождению, весьма привлекательной и пикантной, флер романтических любовных приключений окутывал ее имя. Ей принадлежал тифлисский магазин дамского белья французской фирмы, и дамы тифлисского света предпочитали одеваться у нее, ибо у мадемуазель де Ламьемолено было узнать о новостях парижской моды раньше всего. Наша заграничная агентура выяснила, что родилась она в семье разорившегося дворянина, ставшего бродячим циркачом. До семнадцати лет кочевала вместе с родительским цирком, потом танцевала в варьете, была белошвейкой, и так продолжалось до двадцати семи лет, когда след ее вдруг утерялся на целых четыре года, пока, наконец, в возрасте уже тридцати лет, она не объявилась в Тифлисе в качестве владелицы крупного магазина.
Все эти сведения, разумеется, как-то приближали Зарандиа к истине, однако сам он считал, что у него в кармане — ключ к раскрытию преступления. Что же касается меня, то было бы странно, если б я не предполагал, что с равным основанием можно было выбрать шесть других досье, которые столь же доказательно свидетельствовали о преступлении, сколь и те, на которых остановил свое внимание Зарандиа. Словом, я не склонен был разделять его оптимизма. Ни один из моих подчиненных не мог получить права на дальнейшие действия, если я сомневался в целесообразности операции. Исключением был лишь Мушни Зарандиа. Ведь в конце концов, — в который уже раз подумал я, — главное — его отношение к делу, а результат получится сам собой. Как всегда, так и в этот раз его отношение к делу было исполнено ума и добросовестности — можно ли в таком случае лишать его права на предприимчивость? И я махнул рукой — пусть делает, как знает.
БЕКАР ДЖЕЙРАНАШВИЛИ
Мы вскинули косы на плечо, пустили вперед Дастуридзе и тронулись по дороге в Цхрамуха. Вечерело. Дом управляющего князя Амилахвари был неказист: наверху две комнатенки с галереей, внизу — марани и не знаю еще что. Зато фруктовый сад — дай бог!
На цепи сидел пес, ростом с бычка, уши обрезаны, ошейник унизан какими-то бляхами. Такой он поднял лай — я думал, уши лопнут. Дверь марани была открыта. Выходит Шалибашвили, коренастый, плотный мужик. Не помедлив и секунды, даже не взглянув на нас хорошенько, он проследовал по дорожке и распахнул калитку, приглашая войти.
— Добрый вечер, Нико!
— Пошли вам бог мира и здоровья! Входите-входите, чего стоять?
— Погоди, Нико… Послушай, что я скажу, — завел было Дастуридзе, но Шалибашвили его перебил:
— После, после… Входите, прошу вас! Да входите же!
Хозяин повел нас к дому.
— Этой стороны держитесь, сюда, вот так, сюда! Злющий пес, не приведи господь… Шатаешься по чужим имениям, так собственный пес волком стал. И на меня бросается, проклятущий… сюда, сюда! Ну, здесь ему нас не достать. Пожалуйте в дом. Так, так…
Мы вошли в марани.
— Мир и достаток дому сему, — благословил Дата на своем мегрельском наречии. Пожелали добра хозяину и. мы.
— И вам дай бог здоровья, — ответил он. — Ты вот сюда садись. Вы — сюда. Садитесь, садитесь… Хозяйка! Гости у нас… Слышишь ты меня? — крикнул он кому-то наверху и, вернувшись в марани, продолжал чуть слышно, так что не только хозяйка, мы сами едва разбирали:
— Не забудь тушинского сыру и балыку. Вчерашнюю говядину так и неси холодную, мы здесь сами ее нарежем… Я же говорил тебе — испеки! Так тебе и надо — пеняй теперь на себя! Стой и подогревай вчерашние лаваши, не вздумай принести неподогретые, — получишь у меня. Вот плюну сейчас и, пока высохнет, — ты должна быть здесь… — Шалибашвили и правда плюнул и, повернувшись ко мне, сказал громко, почти на крике:
— Похоже, ты мастак вскрывать квеври, — и обернулся к Дате: — Подойди-ка сюда…
Дата поднялся и подошел к нему.
— Вот тебе двугривенный… Держи, держи… Теперь загадай на два этих квеври и подбрось. Какой стороной упадет, тот квеври и откроешь! Бросай, чего тянешь!
Дата загадал и подбросил монету.
— На эту выпало, на этот квеври!.. — Шалибашвили захлопал в ладоши, рад был — дальше некуда. Чуть в пляс не пустился.
— Иди снимай крышку, — закричал он мне, — иди, иди… Вино что надо, лучшего не найдете!
Я открывал квеври, Дата глядел, дивясь, на Шалибашвили, а Шалибашвили радовался от всей, видно, души:
— Вот сеятель идет, бросает семя и приговаривает: это птицам небесным, это — вдовам сирым, это — гостю… Так ведь? Вот и я… И я так же. Три квеври припас — для гостей. Видит бог, не вру! Да что за недобрый год выдался? Куда все гости подевались? Нет и нет никого!..
Вошла хозяйка. На подносе у нее — все, что прошептал Шалибашвили… ей-богу, не вру! Мы с Датой встали и поклонились хозяйке. Дастуридзе и ухом не повел, пока я втихую не двинул его легонько. Ну, и хороша ж была женщина! И ладную, и статную послал ему господь жену! Такая она вся из себя… Такая… Я грешным делом подумал: у этого сукина сына такая дома красавица, а он еще к любовнице шастает. Но куда человеку от себя деться? Все ему мало, всего не хватает.
А Шалибашвили нес и нес, рта не закрывая:
— Вы-то меня кликнули, а я сидел и думал: видно, бог на меня прогневался, дурная это примета — стоят квеври нетронутыми. Тут слышу — зовут: Нико, Нико! Пошли вам бог всех благ, а божьей милости поклон, что вас сюда послала, ну, в самое время, бальзам от тоски и душевной хвори, право… Коста, дай-ка сюда эти роги! Вон там они, там… Воды туда не капни! Вином, вином ополоснем… Чтобы вином ополоснуть, нужна мужская рука, женщина здесь не помощник, сам и ополосни… давай налью… У-у-х! Хорошо! Этот — тебе, этот — тебе, этот — тебе. А этот — мне… Встанем! Пить стоя!.. Да пусть будут над нами мощь и удача всех трехсот шестидесяти пяти святых Георгиев! Будем благословенны! Пусть не оставит нас благодать матери господа нашего Христа девы Марии! Святая троица и все четыре евангелия да пребудут с нами и ныне, и присно, и во веки веков! Пьем, братья мои!
Мы осушили роги и сели за низкий столик.
— А теперь эти вот роги, две парочки! Все четыре один к одному!.. Была у меня пара быков, во всей Картли таких не найти! Эти рога — от них. Все один к одному. На йоту друг от друга не отличаются. Хотите смерим! Коста, что за людей ты мне привел?.. Ничего не едят… Берите это. Это попробуйте. Хорошие, видно, люди. Я говорю — видно, а там бог им судья…
— А ты дал мне слово сказать? — говорит Коста. — Я еще у калитки хотел вас познакомить, а ты — «после! после!».
— Конечно, после. Куда спешить? Кто нас гонит? А не захотят говорить — так и не надо. Гость — он от бога. И… по одному тосту скажем…
— Был бы твой волкодав с тобою в хлевах Ростомаш-вили, черта с два вломился бы к тебе Табисонашвили! — пролез я в болтовню хозяина.
— Верно говоришь, никто бы не вломился… это не собака, это сатана! А с чего ты взял, Табисонашвили это был, или Белтиклапиашвили, или Джиркигледиашвили? Этого и власти не знают, а тебе откуда знать? Пес что надо, такого ни у отца моего не было, ни у деда, ни у прадеда… А про Табисонашвили кто тебе сказал?
— Он! — Я ткнул пальцем в Дастуридзе.
— Ну, эта лиса все знает. Он же человек этого безмозглого плута. Раньше они оба по мелочам воровали, а теперь в большой разбой ударились… Лиса! Позавчера взял я было лису, да ушла, паскудина, промазал… больно далеко шла.
— Я говорил? Я говорил? Ничего не говорил!.. Ничего не знаю. Просили привести вас к Шалибашвили, я привел. А так ничего я вам не говорил, ничего…
— Да заткнись ты, Коста, бога ради! Не валяй дурака!
Он присмирел и, пока мы говорили, молчал, как мертвый.
— Ты про безмозглого плута говорил, а кто он? — спросил Дата.
— Кандури… Сколько на меня хлопот из-за него свалилось, не счесть. Но я на своем стою. Меня не сдвинешь. Пусть сперва вернет те бурдюки, что свистнул он у меня на горийском базаре.
— Погоди, кто украл у тебя бурдюки? Кандури?
— Кандури. Теперь напялил рясу, бороду до брюха отпустил и взялся учить народ уму и совести… Не на такого напал! Думаете, там пустые бурдюки были?! Два больших бурдюка и четыре поменьше. Большие-то были буйволиные. А вы знаете, сколько в самый большой буйволиный бурдюк вина войдет? Не знаете? Я бы сказал, да позабыл… Буйволиных-то бурдюков у меня с той поры и не было — вот и позабыл. Лет пятнадцать прошло, как он их стянул. Помнил бы, и спрашивать не стал бы! Подставляйте роги, подставляйте!..
— Когда они учинили это бесстыдство и поднялись уходить, что тебе Табисонашвили сказал? — спросил Дата.
— Я что дурак, что ли? Меня на мякине не проведешь! На хинкальный фарш искромсай Табисонашвили — я его узнаю. Я его прижал, он признался — не сам, говорит, пришел, не моя была воля. Знает, сукин сын, я его не продам, — вот и сказал. А в суд чего подавать? Собака собачью шкуру никогда не порвет, давно известно… Я тут с вами разболтался, может, лишнего наговорил — ничего не сделаешь, такой уж я с рождения. Вы думаете, я не знаю, зачем вы сюда пожаловали? Тут сидит с нами Коста, лиса и мошенник. Там — Табисонашвили и Кандури. Табисонашвили и скажи: «Я — Дата Туташхиа. Когда про свои дела будешь толковать, про мои тоже не забудь». Знать хотите, сам я это придумал или Табисонашвили сказал? И если сказал, то кто ему велел? И что было у того советчика на уме и на что он рассчитывал?.. Я вам все это уже выложил — и не по пьянке, — вижу, забота эта вам житья не дает, и сказал. А их я не боялся и не боюсь. — Шалибашвили щелкнул Дастуридзе по лбу. — Вот так вот. Только больше того, что я сказал, от меня не услышите. Вот Кандури в Хашури пьет да спит, а Табисонашвили в дверях у него сидит… Остальное как хотите, так и понимайте. А я знать ничего не хочу, пока он мне бурдюки не вернет. Ну, а теперь — кутим!.. В кутеже и застолье имена знать положено, без имени тоста нет. Ты — по выговору твоему слышу, — Шалибашвили подумал, — рачинец, зовись Симоникой, а ты, — он опять запнулся, — мохевец, будешь у нас Шиолой. Выпьем за тех, кто родил нас, дал нам имя и голову, грудью нас кормил и в дом хлеб приносил, — выпьем за них, а тем, кто почил, — вечный покой! — Шалибашвили залпом осушил рог.