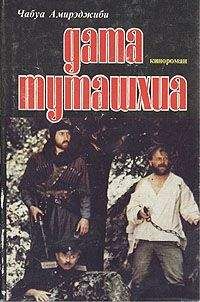— Не убьете — скажу.
— Подавно не скажешь, если убьем. Ты скажи, а мы поглядим, убивать или нет, — смотря по настроению.
— Кандури велел…
— Перед ним подтвердишь?
— А как же, если, конечно, не убьете!
— Ты подтверди, может, и не убьем!
Дастуридзе поднял руку — что-то хотел сказать.
— На пальцах у Кандури кольца с крупными камнями видал?
— Видал.
— Кольцо с очень крупным бриллиантом?
— Есть здоровенный камень, а как называется, не знаю.
— Похож на стекло этот камень?
— Да, совсем, как стекло, и блестит так же.
— И сейчас на нем?
— Сегодня видал.
— С абрикосовую косточку будет?
— Будет!
Дастуридзе от радости хлопнул в ладоши. В тишине это прозвучало, как выстрел. Я своей ладонью проехался по его щеке, и снова все стихло.
— Веревка у тебя найдется? — спросил я Табисонашвили.
— Веревка?.. Веревка, веревка, веревка… Есть, есть, как же! Под грушами качели висят — веревки что надо!
Я быстро срезал веревки.'
— Стань на четвереньки!
Табисонашвили не сопротивлялся. Я его связал. Получилось хорошо — передвигаться на четвереньках он мог свободно, а ни встать, ни другого чего уже не мог. На Алазани мы ослов так треножили.
— Ступай вперед и впусти нас в дом!
Табисонашвили — на четвереньках, мы — за ним. Приоткрыл дверь в коридор, мы — за ним. Приоткрыл дверь марани, мы — туда же. Я ему пинка, Табисонашвили и замер посреди марани.
Три человека, потеряв речь и разиня рот, глядели на нас и Табисонашвили, а мы на них. Смотрю — нет Дастуридзе. Оглянулся — торчит за дверью, смотрит в приоткрытую щель.
— Сосчитай, сосчитай… деньги счет любят! — сказал кто-то.
Кому тут еще быть? Огляделся — вижу, попугай. Сидит в большой клетке. Тоже золотом покрашена. Ну до чего красив, сукин сын! Я не удержался, подошел поближе. А Табисонашвили стоит посреди марани на четвереньках, голову свесил, как старый одр…
— Убирайтесь, — завопил один из попов, тот, что потолще. На меня даже слюна попала.
— Полицию, полицию позвать! — заорал второй.
У нас уговор был такой, что Дата начинает первым, а мы молчим, рта не открываем, ни на что не откликаемся. Я должен был обойти марани и все разглядеть, как следует. Дата должен был следить за ними, не отрывая глаз. Я отошел от попугая и прямиком к квеври. Оттуда — к тонэ. Двигался я не спеша, и вид у меня был такой, будто, кроме меня, здесь и нет никого.
— Убирайтесь! — закричал снова тот, что потолще.
— Полицию, полицию! — Это опять второй.
— Сосчитай, сосчитай… Деньги счет любят!..
У нас за поясом по маузеру, в руках по нагану — мы уберемся, ждите! И кому интересно полицию вызывать? Табисонашвили? Но ему на четвереньках и к утру до полиции не добраться, отпусти даже мы его.
Этак, прогуливаясь, подошел я к камину. Обыскал священников. Оружия при них не было. У Кандури из-за голенища вытащил здоровенный нож, сделанный из кинжала. Хороший был нож, он мне после лет десять прослужил. Осмотрел руки. На большом пальце правой руки сидело большое бриллиантовое кольцо, камень — величиной с абрикосовую косточку. Я осмотрел все кольца и нагнулся поглядеть, на чем это Кандури возлежит. Поднял шкуры, львиные, тигриные, заглянул под них… Под шкурами лежали огромные, туго набитые и накрепко зашитые мешки! Шкуры и прикрывали это ложе.
Я полоснул ножом Кандури по одному из мешков. Посыпался рис. Провел по другому — полилось пшено. По треьему — гречка. Сунув наган под мышку, взял по жмене риса и ячменя и пошел к Дате.
— Обратитесь к ним со словом божьим, ибо «в начале было слово, и слово было к богу, и слово было бог», — кинул Кандури своей бражке.
Отец мой был пономарь, мальчишкой определил меня в бурсу. Кое-что в голове осталось — вот и запомнились все эти разговорчики.
Пока я дошел до Даты, один поп изрек «…не хлебом единым жив человек», а второй подстроился: «Душа больше пищи и тело — одежды».
Я разжал руки и сказал Дате:
— В других мешках… еще и гречиха…
Дата глядел-глядел, как сыпалось из моих рук зерно, и вдруг изменился в лице, из горла его с хрипом вырвался воздух, и он закрыл ладонью лицо.
Попы друг за дружкой бормотали из Евангелия.
А Дастуридзе, не отрывавшийся от своей щели, хоть и видел, как я разглядывал руки Кандури, но разобрать не мог, снял я кольца или нет. Когда я разжал перед Датой ладони с крупой, он по своей шакальей натуре вообразил, что я показываю перстни, сорванные с Кандури. Душа его не выдержала, он ворвался в марани и, подлетев к нам, заверещал:
— Что… что… что это такое? Перстни?.. Перстни? Да? Где перстни?
— Где были, там и есть.
— Ни с места, Коста! — прошептал ему Дата. — На мешках с этим вот добром покоится ваш вожак!
У Дастуридзе глаза на лоб, на крупу уставился:
— Он ведь кашу любил… Я же говорил, «Кашкой» его звали.
Дастуридзе хлопнул было в ладоши, но тут же заслонил лицо — испугался, как бы опять не заехали ему по морде.
Попы все читали, а Табисонашвили все так же слушал их, повесив голову, как усталый одр.
Дата сел за столик у камина. Мы с Костой остановились рядом.
— Садитесь! — Рукояткой маузера Дата ударил по столику.
Оба священника опустились, как срезанные.
— Табисонашвили, поди сюда!
Охранник Кандури приблизился к нему.
— Что велел он тебе сказать, когда посылал изнасиловать любовницу Шалибашвили?
Кандури взглянул на Дату, лицо его покрылось синевой. Табисонашвили рассказал все, как было.
— А почему свалил именно на Дату Туташхиа?
Я еще рта не закрыл, как Дастуридзе налетел на Кандури, вцепился в кольца. Пошла возня, то один одолевал, то другой… а поп, что посолидней, вскочил и забубнил:
— «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия…»
Кандури, наконец, вырвал руки, двинул Дастуридзе в челюсть и пинком отшвырнул, как котенка.
— А ну, садись! — закричал я попу.
Он сел, не переставая креститься.
— Я тебе что велел, Коста? — сказал Дата и повернулся к Кандури — Говори правду, а то уже сегодня будешь вариться в кипящей смоле! И еще сто лет!
«В геенну… в геенну… в геенну…», — закричал в тишине попугай.
— Если ты Туташхиа… твоим именем много зла творится. Да ты и сам не отстаешь… Поверить в это легко, я и назвался твоим именем.
— А еще почему?
— Только поэтому…
— Брось шалить, Кандури! Имя и чин того, кто велел тебе назвать мое имя!
— Никто не велел!
Три или четыре пули просвистели одна за другой. Запахло паленой шерстью от пробитых пулями шкур.
Кандури ощупал грудь, живот, голову.
— Один из помощников экзарха! А кто ему велел, убей, не знаю!
— Не знаешь, говоришь?
— Клянусь богом!
— А ну встань!
Кандури поднялся.
— Ступай к тонэ!
Кандури едва волочил ноги. Попы заохали и стали креститься.
Кандури добрался до тонэ.
— Стань спиной ко мне!
Он повернулся.
— Имя и где служит!
— Не знаю, правда, не знаю…
Я прицелился. Не прицелился, конечно, а сделал вид, что целюсь, и выстрелил.
— Не вспомнил?
— Говорю… не знаю, кто ему велел!
Я сделал еще несколько выстрелов, и вышло так, как мы и рассчитали: Кандури схватился за горло и плюхнулся в тонэ.
Убивать его мы и не собирались. Его даже не царапнуло, но мы знали, что хитрец непременно прикинется мертвым и свалится в тонэ.
Стало так тихо, что было слышно, как урчит в кишках Табисонашвили. Попы не шевелились, а у Табисонашвили челюсть так отвисла, что в пасти у него могла б уместиться наседка с цыплятами.
Дастуридзе кинулся к Кандури, видно, хотел стащить с него кольца, но не успел он добежать, как Дата закричал:
— Стреляй в него, швырнем и его туда же!
Я выстрелил. Дастуридзе рванулся назад и тут же оказался там, откуда кинулся за Кандури.
Угомонилась семейка.
Дата достал с камина Евангелие, полистал его и протянул священнику, что был потолще:
— Читай громко! От Луки одиннадцать, пятьдесят два и передай ему, — Дата кивнул на другого священника, — пусть и он прочтет — да погромче и поясней!
Священник откашлялся раз, другой, книга дрожала в его руках:
— «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали».
Другой священник повторил эти слова.
Дата захлопнул Евангелие и положил обратно на камин.
— Погребем преставившегося во Христе раба божьего! — сказал Дата.
Вот об этом мы не договаривались, и теперь я уже не знал, что он собирается делать.
— Отбросьте шкуры! — приказал Дата попам.
Они подняли шкуры одну за другой и швырнули их на пол.