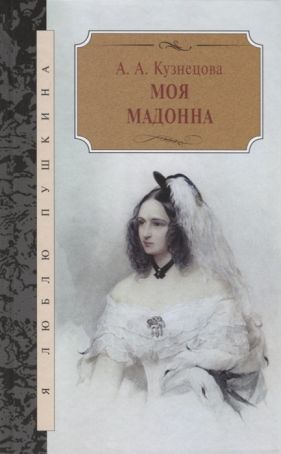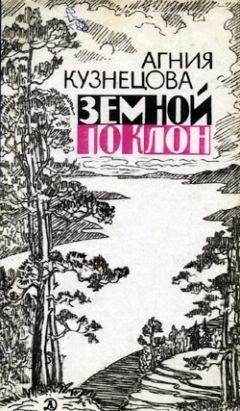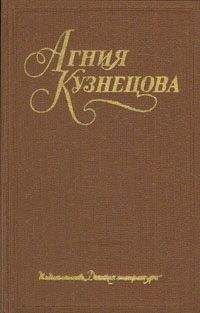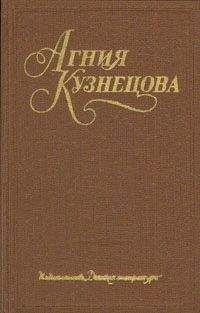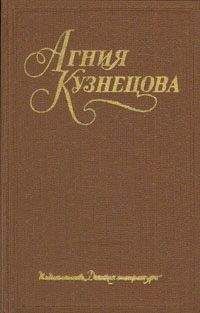более что стенд посвящен Александру Сергеевичу.
— Ну, хорошо, иди в ту комнату, — показала она на дверь. — Там приготовлен ватман и краски. Напишешь: «К сто восемьдесят четвертой годовщине со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина». А я пойду отберу фотографии для стенда.
Долли вышла в маленькую комнату, села за стол, открыла папку. Взяла первую фотографию.
Елизавета Михайловна Хитрово с литографии Шевалье, сделанной по акварельному портрету Гау. Она сидит в резном кресле, сидит немного мешковато, опираясь на левую руку. Открытые плечи, на шее косынка, сколотая брошью. Прическа гладкая, на прямой ряд, по бокам отделанная пышным украшением из белых цветов. Лицо умное приятное.
А вот и Долли Фикельмон с акварели Т. Уинса, 1826 года. Она одета скромнее матери. В черном легком платье, перехваченном поясом, с широкими рукавами и высокими обшлагами. На ней нет никаких драгоценностей. Только на черной головке, так же как у матери, с волосами, разнятыми на прямой ряд, с обоих боков пышные белые украшения, соединенные спереди как бы обручем.
Долли очень походит на мать: тот же длинноватый нос, та же округлая форма бровей — правда, фотографии с портретов не очень точно передают это сходство. Однако современники Долли говорили, что она была много красивее Елизаветы Михайловны.
Александр Пушкин, сын Сергеев
— Войдите, — живо отозвалась на стук Елизавета Михайловна.
Долли с любопытством устремила взгляд на дверь.
Вошел Пушкин. Невысокий, тонкий, изящный. Стремительной походкой направился к хозяйке, поцеловал поочередно протянутые руки.
— Моя младшая — Долли, — сказала Елизавета Михайловна.
Пушкин шагнул к Долли и, твердо приставив ногу к ноге, склонил голову.
— Александр Пушкин, сын Сергеев!
Долли, улыбаясь, подала ему руку, которую он, вопреки этикету, не поцеловал, а пожал по-мужски крепко.
Дамы сели в кресла. Пушкин без приглашения тоже опустился в кресло, изящным движением привычно закинул ногу на ногу.
«Да он здесь свой человек! Матушка принимает его даже не в гостиной, а в будуаре, — размышляла Долли, наблюдая за Пушкиным и матерью. — А как расцвела матушка, стоило только войти поэту! Она стала молодой. Как играет румянец на щеках! Как горят глаза! Откуда взялась эта поразительная женственность? Верно говорила сестра, что это любовь. Но обоюдная ли? Вряд ли. Он слишком молод для матушки».
А Пушкин в это время завел увлекательную беседу об Отечественной войне, поводом которой послужил портрет знаменитого отца Елизаветы Михайловны. Заговорили о прекрасной архитектуре города, о колоннаде Казанского собора.
— Кто делал эти колонны? — поинтересовалась Долли.
Пушкин поднялся из кресла, отошел к стене. Стоя под портретом Кутузова, засунул руки в карманы брюк, заговорил вдохновенно:
— Это Суханов. Простой русский человек. 1768 года рождения, из деревни Завотежице Вологодской губернии. Сын пастуха. В четырнадцать лет был он грузчиком, затем бурлаком. А потом поехал в Петербург и стал лучшим каменотесом по камню и мрамору. Колоннада Казанского собора и гранитные колонны внутри собора — это дело его рук.
Долли с интересом слушала поэта. Она ничего этого не знала и, кроме того, речь Пушкина была так необычно горяча.
— Гранитный монолит для Александровской колонны был добыт по способу Суханова.
Пушкин пересек комнату и снова опустился в кресло.
— Бестужев в журнале «Сын отечества» в 1820 году писал: «Мы ищем удивительных вещей в чужих краях и проходим мимо сих чудных, неимоверных колонн с самым обыкновенным любопытством… Суханов одним опытом дошел до того, что может выломать такой кусок камня, какой ему угодно».
— Интересно! — сказала Долли. — Вы даже на память пересказываете Бестужева. У вас, господин Пушкин, отличная память. Кстати, это тот самый Бестужев, что был в заговоре против царя?
— Тот самый.
Елизавета Михайловна дала возможность Пушкину помолчать, понимая, что вопрос дочери на какое-то мгновение вернул его к грустным воспоминаниям, и тогда сказала:
— Расскажите, пожалуйста, моей «иностранке», кто выломал и как доставлена была скала, на которой возведен памятник Петру Первому.
Пушкин улыбнулся:
— Скажу, если дозволите. Памятник Петру Великому сделан скульптором Фальконе, который хотел, чтобы пьедесталом памятника служила цельная «дикая скала».
И он рассказал, как в 1768 году крестьянин Семен Вишняков, замечательный плотник и каменотес, добытчик камня, предложил Академии художеств для пьедестала «гром-камень», названный так потому, что молния образовала в нем глубокую трещину. Этот камень находился в 12 верстах от Петербурга, а весил 100 тысяч пудов. Способ, как перевезти камень, предложил один кузнец, имя которого осталось неизвестным. А грек Карбюри Ласкари, приехавший в Россию, чтобы поживиться, за 20 рублей купил у русского умельца способ передвижения камня. Слава и деньги достались ему.
— Долго рассказывать, как была сооружена доставка камня. Двигали его до Финского залива четыреста человек четыре месяца. А по воде перевозили на специальном грузовом судне. 26 сентября 1770 года камень водрузили на Сенатской площади. Еще будете проверять мою память? — с улыбкой осведомился Пушкин.
Дамы отказались.
Разговор перешел на другие темы.
Долли с интересом слушала рассуждения поэта о политике, умные, неожиданные, иногда, с ее точки зрения, неверные. Но она не вмешивалась в разговор. Пушкин еще не знает, что она не такая, как другие женщины великосветского Петербурга: блестяще знакома с мировой политикой, интересуется ею, что ее называют женщиной мужского ума и способностей.
Горничная доложила:
— Екатерина Федоровна просили сказать, что они с ее величеством императрицей дожидаются вас в гостиной.
Пушкин оборвал разговор, и Долли заметила, что он помрачнел.
«До чего же некрасив», — подумала она. И ей вспомнилось, что матушка говорила, как в лицее он называл себя «помесью обезьяны с тигром». Но Анненкова, например, считает его изысканно и очаровательно некрасивым. Его глаза удивительные. Какая-то нечеловеческая притягательная сила в них. Сила гения, должно быть, который видит вперед то, чего не знаем мы. Но как он хорошеет, когда говорит,