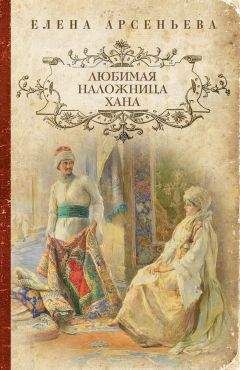Живешь будто долго, аж надоест. И смерть не раз вспомянешь, призывая. А оглянешься – будто все в одном дне, еще и не жил. Давно ли с Матюхой Коткиным таскался в Мангазею, в Обскую землю, и тогда дивно приперли в обласе мягкой рухляди для государевой казны: не двенадцать ли сороков пупков собольих, да пятьдесят соболей, да тридцать пластин собольих, да два свясла лоскутья собольего. Нынь закрыт туда ход царевым указом и мало сыщется отчаянных охотников, торивших дорогу. Ну, двое-трое на Окладникову слободку, да и те обветшали, обезножели, а прочие, что помоложе, отчаюги, те отшатнулись от родины Семейкой Дежневым в коче и не вем где болтаются; ни Меркурьева Елфимки не слыхать, ни Фомы Андреевича Семенова, ни Романа Иванова. Лишь у Созонта путик в Мангазею не только в памяти, но и в точности записан в свитке и запечатан тесной облаткой, и укрыт в самый надежный схорон на тябле за образами, куда дурному глазу досмотр заказан. И вдруг захолонул кормщик от внезапной мысли: а кабы днями-то помер ненароком и навовсе замкнул путик в Святую Страну?
Нет хуже алчбы и зависти; алкающему человеку черти в аду кладут на язык раскаленные каменья... Мне-то, проклятущему, завещано в грехах измозгнуть, яко последней пропадине, и лютое покаяние не сымет скверну, хоть ползи ужом до самой престольной. Но сына-то, сына на что попускаю? в какую блазнь и хворь вторгаю? Чтобы он до дряхлых лет не сыпал мягко и не кушивал сладко, а вот, как я, прозябал в кушной зимовейке, трача глаза дымом, иль под еловой выскетью, как медведь-шатун? Ой, не зря же прильнуло ко мне прозвище Медвежья Смерть; всю жизнь со зверем ратился, да и сдохну где ли в его объятиях. Нет ничего отравительней и обольстительней неведомого пути, и куда хмельнее он заморских питий.
...Воистину бездна бездну призывает. Кто в море не бывал, тот горя не знавал и Богу не маливался.
Вздорили в сокольнике душа с плотию, и душа по смерти желала воли и пути, а плоть томилась по теплому гнездовью, сытному хлебову и бабьему сряду.
Кабацкий ярыжка и поморянин, оба что лагун дырявый: одного вином не заполнить, другого – волею. И потому молвилось сокольнику иное, ибо сына-то по себе стряпал и, кажется, добрый испекся каравашек.
«Много чудного на земле, сынок, – задумчиво протянул сокольник, продлевая радость душевную; сам из болезни выплыл и сына из дела вживе дождался. Всегда, мил человек, улучивай подобную светлую минуту и умасливайся ею, как святым миром, ибо в это время нисходит на тебя Божье благоволение. – И так дивно, сынок, что глаза на лоб. И так хмельно, будто опился нечуй-ветром».
«То и видно», – буркнул Любимко, незряче отвлекаясь от паюсного оконца и снова примаясь за заделье. Подумал: выпугал палач утопшего плахою; да я нынче сам смерть зрел в очию, и ничем не удивишь меня, тата... Но слух, однако, навострил. На мгновение в пустыньке обжилась такая покойная тишина, что комариное непрестанное нытье показалось громовым гуденьем иерихонских труб. Сказывают: в эти минуты где-то человек родился.
«Всяк топчет, дитятко, чужие следы, кои заросли забвением. Как ступишь в дорогу, не поленись вспомянуть: здесь татко мой бывал. Вспомнишь, а я отзовуся...»
«Опять запричитал. Я не поп, да и ты не покойник...»
Созонт печально засмеялся. В прогале распахнутой двери косо ложились по ветру тощие хвощи да осоты, иссиня разбавленные медуницею... Вот и вся четвертушка земли, что остается старику пред смертию, а после и она обсечется до запечного угла и коника возле порога, куда с клюшкою подпиральной едва доплетешься, оплывешь на лавице, а подняться другой раз без подмоги – и не решишься... Что ж я-то разнюнился? ведь не пень-колода лежачая и не валежина трухлявая, обнизанная моховыми пролежнями, и не трупище окаянное, коего карачун приспел... Из серенькой кулижки света в распахе двери вдруг потянуло на Созонта непонятной тревогою, и сердце его екнуло, будто бы из дому донесло худую весть.
«Давай улыскайся над батькою, – мирно упрекнул Созонт, с трудом извлекаясь из дремотной плывучей грусти. – Вот и я где только не бывал, а все по чужим следам топтался. А думалось, что вно-ве-е... Вот трава ежели. Издаля она, как шерсть медвежья. А пади на колена – всяк цветок наособицу. Так и люди на свете, всяк на свое лицо.
...Сказывают, до крепости Грустин, что в Лукоморье на горах за Обью-рекою, приходят с торговлей черные люди от Китайского озера. Глаза желтые, серпом, а обличьем – головешки. Так те, как лягушки, в ноябре в день святого Георгия помрут, а в апреле всякий раз оживут, чудное дело. Как помереть, они складывают товары в назначенном по сговору месте для обмена. А весной, ежли найдут, что грустинцы надули с ценою, то свои товары назад просят. Говорят: отдай! И опробуй не вернуть, тотчас войною... Ниже по Оби взять, там каламы живут, поклоняются Золотой старухе. Стоит та баба у Обдора на берегу и держит на коленях сына, а из брюха уже внук, значит, мальчонка лезет. Золотую старуху те каламы почитают, как мы Господа своего, и то место запечатано для всякого чуженина. А по реке Тахнин обитают люди-звери: у иных все тело обросло шерстью, у других – собачьи головы, иные без шеи. Вместо головы – грудь, а руки до земли и ног нет...»
«Сам-то хоть видел? Иль во снях наснилось? Тебе набаяли, а ты мне басню. Как это без головы?»
«С грустинцами знался, ну, как с тобою. А до черных людей не дошел. С того Китайского озера Обь выпадает, – сознался Созонт. – От крепости Грустин сквозь горы будет три месяца пути с лишком».
«Что, жила тонка?» – поддразнил отца Любимко.
«Да не-е... По дому заскучал».
Созонт не докончил рассказа. В плетухе, принакрытой рогожею, вдруг забеспокоился гнездарь, всхлопотал, жалобно заверещал. И как бы на этот зов вдруг в распахе двери появился белый кречет; шел он неловко, с раскачкою, неуклюже подпрыгивал по набитому земляному полу, помогая себе крыльями. И словно бы занял собою всю зимовейку, столь показался великим. Птенец заверещал пуще, видно, расчуял мамку, забился в плетухе. Точно грозой ударило мужиков, молоньей сразило, в такой они впали столбняк. Добивались кречета всей ватажкой, скитались по Канской земле, а он, вот, явился сам, как небесный вестник. «Чур меня, чур... чур», – кстился Созонт, сбелев лицом. Не смерть ли, часом, явилась за ним? А Любимко, тот сразу признал своего сокола: от него ныли, гноились по плечам рваные язвы и кровенели борозды на спине, словно бы увязил кречет когти в мяса, да и оставил там. Это он гнался по пятам от Шехоходских гор, расставив ухватом соломенно-желтые ноги.
Посреди становья кречет остоялся, восшумел крылами, будто захотел поразить Любимку в самое сердце, каждая махалка в аршин, почти белоснежная, с редкими черно-бурыми каплями, похожими на копейцы стрел. Да, это был не слеток и не молодик, но редкостных размеров дико мыт, непокорный властитель северных небес. Седые пуховые штаны, низко нависающие над лапами, желтовато-голубой, круто загнутый клюв и бурые пронзительные глаза в зеленоватых ободьях выдавали птицу боевого, властного покроя. Птица срыгнула шумно, щелкнула клювом; у Любимки и оторопь пропала. Господи, сама удача в руки, только не зевай. Экая досада – ни помчей, ни сетки возле. Зашарил по постели руками, потянул украдчиво одевальницу, чтоб спеленать кречета. Но куда там: кречет сразу отскочил, зорко сторожа немигающим взглядом охотников.
«Батько, давай опромет. Эх, ну что ты», – свистяще прошептал Любимко: он был юн, и предчувствия еще не томили его, а недавний сон уже источился, выпал из памяти.
«Да ну его, лешего, к дьяволу. Не видишь, рожки у него», – отмахнулся Созонт. Кречет подпрыгнул к плетухе, клювом потянул рогожку. Тут Любимко не сдержался и кинул на пришлеца кафтан. Да разве вольную птицу спеленаешь одежонкой? Нырнул кречет в дверь, прощально визгливо закеркав, – и только знали его. Любимко выскочил из становья, пошарил взглядом по небесам, но не нашел кречета в серой низкой мороке, едва сочащей влагу. Отец вышел следом, натужно дыша, левая половина лица нелепо испроедена, сквозь прозрачный пергамент мертвеющей кожи проступал череп; вывернутый глаз, обметанный червчатой бахромою, тускнел от слезы.
«Не зырься, парень, на дармовщинку, – остерег Созонт, расслышав тайные сыновьи мысли. – Чужое-то не удержишь, меж пальцей протечет. – Он взмахнул пястью в чужедальнюю сторону, куда, по его мнению, отлетел сокол, и с внезапным восторгом добавил: – Любовь – она сильнее медведя».
«Да ну тебя... Любовь, любовь. Возле же был. Расселся, как блин гретый... Ему руку протянуть лень», – осердясь, огрызнулся Любимко и скрылся в зимовейке. Да что толку досадовать на оплошку? Сам, раздевулье, тоже хорош: ему ложку с хлёбовом в пасть суют, а он зубы сцепил.
Любимко раскрыл клетку, собираясь кормить птенца свежиною. Гнездарь забился в угол, опал на гузку, нахохлясь, призакрыв голубыми пленками глаза, и словно бы запомирал.
«Эх ты, курячий сын», – Любимко жальливо погладил детеныша по взгорбку, и сердце его ворохнулось: под мягким, еще не загрубевшим пуховым пером косточки были тонки, беззащитные, как у цыплака.