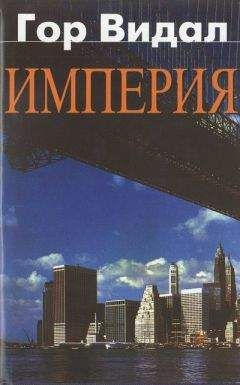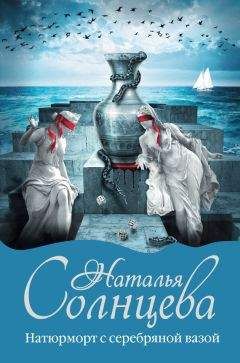— Он умеет тратить деньги, — восхищенно прокомментировал Хэпгуд.
— Иногда мне кажется, это единственное, что он умеет, — кисло ответил Блэз. Он тоже тратил деньги в Балтиморе; строго говоря, истраченные им деньги стояли возле него в виде крепкого тевтонца с огромными усами — собирательного образа полнотелых херстовских журналистов. Но даже Хэпгуду не удалось пока поднять тираж газеты. Теперь все их надежды возлагались на серию статей о смешанных браках между белыми и черными, что должно было взбудоражить читателей; так, во всяком случае, полагал уроженец Мэриленда Хэпгуд. Блэз завидовал Каролине, точнее — ее городу. Когда жизнь в столице становилась скучной, всегда оставались иностранные посольства, когда не было новостей из посольств, оставался Белый дом, бесконечный источник «живого человеческого интереса», как гласило расхожее выражение. Рассказы о рузвельтовских детях, об их пони в лифте, об их появлении на ходулях в комнате заседаний кабинета министров, об их змеях и лягушках на обеденном столе и, прежде всего, о юпитероподобном Теодоре, ведущем себя по-королевски и занимающем свой высокий трон как бы по праву рождения. Каролина могла ничего не делать, и полосы ее газеты заполнялись сами собой. У него, Блэза, были только смешанные браки. А что же дальше?
Блэз намеревался посетить Херста в его доме на Лексингтон-авеню, но Хэпгуд предложил прощупать настроение толпы.
— Если Шеф, — хотя он теперь работал у Блэза, Шеф все равно оставался Шефом, — собирается быть кандидатом в девятьсот четвертом году, нам следует нырнуть в толпу и выяснить, какие у него шансы.
— Здесь сплошной Бауэри. — Блэз уже неплохо знал манхэттенскую толпу. — И еще Таммани. — Все были в приподнятом настроении. Огромные транспаранты возвещали победу Херста большинством в 15 800 голосов над его бесцветным соперником-республиканцем; он получил на 3500 голосов больше, чем общий список кандидатов, что сделало его самым ловким добытчиком голосов во всем штате. Намечавшийся Таммани-холлом кандидат в губернаторы провалился, в упорной борьбе он проиграл своему республиканскому оппоненту. Это была именно та ночь, о которой грезил Херст. Он победил на своих первых выборах с большим отрывом.
Блэз и Хэпгуд оказались неподалеку от оркестра, который довольно бестактно наигрывал «Я с тобой, Калифорния», отдавая дань происхождению Херста, а не штату, ставшему его домом и отправлявшему его теперь в Вашингтон. В небе цветными фонарями сиял воздушный шар с пассажирами. В толпе царило праздничное настроение, да оно и понятно: в углу площади под плакатом «Уильям Рэндолф Херст, друг трудящихся» бесплатно поили пивом, а рядом электрические лампы образовали лозунг «Конгресс должен взять тресты под контроль» — не очень тонкое напоминание о том, что действующий президент не проявляет особого рвения, приструнивая хозяев страны.
Херстовский социализм — если это слово уместно — всегда забавлял Блэза, который ни на мгновение не забывал о лояльности своему классу и никакой другой лояльности не мог себе и представить. Хотя Херсту, если он хотел заменить Уильяма Дженнингса Брайана в качестве народного трибуна, придется изображать из себя друга трудящегося человека и врага богатеев, он вовсе не был демагогом, каким его себе представляли. Богач мистер Херст, унаследовавший большие деньги, недолюбливал других богатых людей, унаследовавших свои деньги. Он настраивался на волну не столько достойных тружеников, сколько тех, кто оказался за бортом общества. Сам своего рода изгой, он не только жил вне закона, но и использовал закон для насмешек над законом. Херст пока еще мог играть на этих нервных струнах все еще дикой страны, которая могла сделать его своим лидером. Блэз вдруг осознал, что он присутствует при историческом событии, начале карьеры, которая может оказаться стремительной, даже наполеоновской.
И как бы в соответствии с этим пришедшим ему на ум образом и подчеркивая его, Мэдисон-сквер взорвалась в буквальном смысле этого слова. Блэз рухнул на колени, а Хэпгуд осел на тротуар с ним рядом. Звуковая волна ударила в них, как прибой на мысе Монток на Лонг-Айленде. Оркестр замолк. Послышались крики, загудели сирены скорой помощи. Воздушный шар завис над их головами и начал медленно опускаться. Электрические огни по-прежнему грозили трестам, хотя несколько транспарантов были брошены на мостовую: люди в панике бежали с площади, где произошел взрыв.
— Анархисты! — Хэпгуд вскочил на ноги; прежде всего он был репортер, херстовский репортер.
В холодном осеннем воздухе появился едкий запах; скорее всего, пороха, решил Блэз. Хэпгуд и он, как бравые солдаты, побежали навстречу бегущей толпе. Пусть другие спасаются бегством; они идут в бой.
Пожарные прибыли в тот момент, когда Блэз и Хэпгуд нашли место взрыва, маленькую чугунную мортиру, внутри которой разорвалась бомба-фейерверк, что вызвало взрыв еще десятков таких же бомб. В близлежащем здании вылетели стекла. Осколки разлетелись, подобно бесчисленным смертоносным пулям, поразив десятки мужчин, женщин и детей. Некоторые стояли с окровавленными лицами и кричали, другие в зловещих позах застыли на мостовой. Блэз смотрел на мужчину, распростертого на мостовой лицом вниз с раскинутыми в стороны руками; в его шею вонзился похожий на бриллиант осколок стекла, наверняка задевший позвоночник. Его удивило, что не было крови, только поблескивающее в свете уличного фонаря стекло и прорезанная им рана, похожая на прорезь в почтовом ящике, в которую кто-то попытался засунуть начертанное на стекле послание.
— Сколько убитых, раненых? — Блэза радовало, что он сохранил хладнокровие, и подумал, что ничего сверхтрудного Рузвельт не совершил на холме Сан-Хуан. Все свершилось шокирующе быстро и очень глупо.
— Около сотни, полагаю. — Хэпгуд вынул блокнот, он писал и одновременно смотрел по сторонам, пока полиция и пожарные не оттеснили их с места взрыва.
Херст сидел за своим наполеоновским столом; он отказался, теперь по-видимому навсегда, от костюмов в клетку и ярких галстуков того времени, когда он изображал принца Гала. На нем был черный сюртук, черный галстук-бабочка и белая рубашка. Ноги, обычно закинутые небрежно на стол, прятались сейчас под столом, пока он говорил по телефону с Брисбейном, редактором «Джорнел». Джордж Томпсон с растерянным видом объяснил Блэзу, что Шеф «улаживает несчастный случай на Мэдисон-сквер».
Блэз сел на диван напротив Шефа, как делал обычно в те годы, когда служил здесь в качестве подмастерья. Девицы Уилсон в бальных платьях с блестками в другом конце этой похожей на музей комнаты играли в трик-трак. В одной из соседних комнат накрывали стол к праздничному ужину в честь восхождения новой политической звезды. Херст слушал, задавал вопросы, закрывал глаза, как бы пытаясь представить себе, наверное, не взрыв, а заголовки завтрашних газет с его описанием. Наконец он положил трубку.
— Я был там, — сказал Блэз.
Херст с профессиональным мастерством опросил Блэза и что-то записал, не обращая внимания на девиц Уилсон.
— Будут иски, — сказал он, — хотя окружной прокурор не видит нашей вины. Но случившегося не изменишь. Главное — не давать покоя Рузвельту. С шахтерами он вел себя, как последний осел. Ты же видишь, это враг рабочего человека.
— Да, — сказал Блэз. Странно было слышать, как Шеф выставляет политические оценки. Как правило, он был безразличен к моральной стороне событий. Значение имело только одно — как подать новость. Теперь новостью стал он сам. Блэз подумал, отдает ли Херст себе отчет в том риске, на который он идет. Он, посвятивший жизнь беспардонным измышлениям о других, сам превратился в объект воссоздания теми же точно методами. Блэз понимал, что Шеф угодил в устроенную им самим западню. Но пока он поздравил новую звезду на политическом небосклоне.
Херст принял это как должное.
— Мне следовало баллотироваться в губернаторы. Но времени не оставалось, и девятьсот четвертый год уже на носу, и нет никого, кто мог бы составить конкуренцию Рузвельту. Я заполучил Лос-Анджелес.
— Лос-Анджелес?
— Городскую газету. Я назову ее «Икзэминер». Следующим будет Бостон.
— А Балтимор?
— Мне нужна там организационная поддержка, Блэз. Может быть, ты мог бы взять это на себя. — Внимание Херста металось от газет к политике и обратно, как будто это было одно и то же, впрочем, именно так Херст это в данный момент и воспринимал, что, по мнению Блэза, было чревато бедой. Нельзя быть изобретателем американского мира и изобретением в одно и то же время.
Джордж Томпсон появился в дверях с раскрасневшимся от позднего празднества лицом.
— Джентльмен, которого вы ждете, — загадочно объявил он.
Херст вскочил на ноги, Блэз сделал то же самое. Девицы Уилсон по-прежнему играли в трик-трак. В дверном проеме возникла внушительная фигура государственного мужа в черном альпаковом сюртуке при галстуке-ленточке, самого Уильяма Дженнингса Брайана.