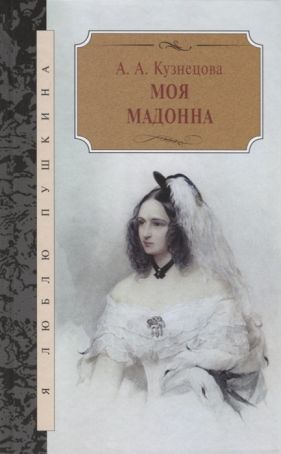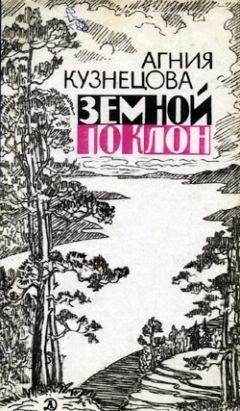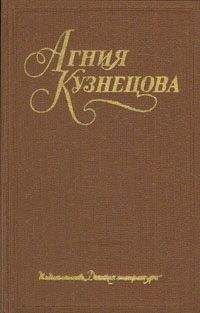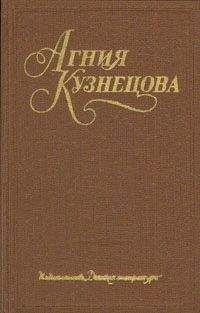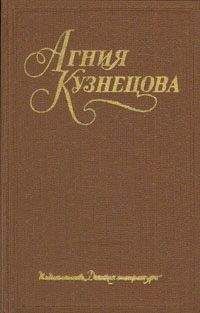все тем же существом — страстным, кротким и беззащитным, которое за Вас готово идти в огонь и в воду, потому что так я люблю даже тех, кого люблю немного.
Он не ответил и на это письмо. Но что же можно было ответить?
Наутро она пошла в комнату детей. Еще в коридоре она услышала веселый смех Елизалекс и рассудительный голосок Феликса, что-то объясняющего девочке. Грусть покинула ее, и она подумала: «Дом без детей — не дом».
Она нежно расцеловала внуков. Похвалила рисунок Феликса, бантик у куклы, завязанный Елизалекс. В это время вошла Долли.
— Доброе утро, маменька, — сказала она, присматриваясь к опухшим глазам матери. — Как спали?
— Доброе утро! — отозвалась Елизавета Михайловна. — Спала неплохо. — И отвела взгляд от всепонимающих глаз дочери.
У Долли в руках была «Северная пчела». В ней она с возмущением прочла статью о «совершенном падении» таланта Пушкина, резкие нападки на седьмую главу «Евгения Онегина».
Видно было, что Елизавета Михайловна в дурном расположении духа, и Долли не захотелось огорчать ее, отдавать ей газету. Но мать уже заметила ее и протянула руку:
— «Северная пчела»?
— Да. Я не смотрела еще, — решила Долли обмануть мать.
Но Елизавету Михайловну трудно было провести. По лицу дочери она поняла, что та прочла «Северную пчелу» и чем-то расстроена.
И Долли и Елизавета Михайловна давно возмущались двусмысленными похвалами «Евгения Онегина» в «Северной пчеле», язвительными намеками Булгарина. Обе не могли простить Булгарину его «Дмитрия Самозванца». Это произведение они не называли иначе как плагиат — неудачное заимствование у Пушкина.
«Опять, наверное, не могут оставить Пушкина в покое», — подумала Елизавета Михайловна. Но не выдала своего волнения, позавтракала в домашнем кругу, поговорила с дочерью, с зятем, затеяла недолгую игру с детьми. А потом уже ушла к себе, сказалась больной, велела горничной никого не допускать к себе.
Она прочла статью о Пушкине. Боль и горечь наполнили ее душу: опять злые нападки на поэта. Нет, она не даст его в обиду, сама выступит в защиту. Кому же, как не ей, Елизавете Михайловне, дочери великого полководца, спасшего Россию, должно было опровергнуть злую клевету, будто бы Пушкин не уважает народную память 1812 года?
Письмо Е. М. Хитрово
«Велико было мое изумление, сударь, когда я вдруг прочла в сегодняшнем 35-м номере „Северной пчелы“, что прелестная седьмая песнь „Онегина“ — это полное падение. Как бы Вам несомненно ни было неприятно напечатать в Вашей газете мою статью, полагаю, что Ваша беспристрастность обяжет Вас к этому. Друзья господина Пушкина будут, конечно, сетовать на меня за то, что я пытаюсь отразить эти новые выпады „Северной пчелы“. Многие меня уверяли, что его благородному характеру свойственно презирать все прямые и окольные нападки. Я знаю так же, что его блестящая литературная репутация слишком незыблема, чтобы ее что-либо могло поколебать.
Но что может помешать сказать правду мне, знающей господина Пушкина лишь по его сочинениям? Меня окружают светские люди, и причем люди, чуждые литературных споров и, следовательно, вполне беспристрастные, а потому меня чрезвычайно изумило то, о чем я прочла сегодня.
Еще вчера мои гости наперебой превозносили эту самую седьмую песнь. Восхищались гармоничностью стихов, описанием зимы, так волшебно изображенной, правдивостью характера Онегина, который считают списанным с натуры, характера Тани, который делается определенным (положительным), — и ее печалью, и тем, как упорно она отказывается доверить что-либо своим кузинам, и как твердо сохраняет в потаенных глубинах сердца драгоценную, хотя и мучительную привязанность, — все свидетельствует о том, что отныне участь ее решена. Ее приезд в Москву, размышления автора о Петровском замке были оценены как имеющие величайшее значение. И в самом деле, у какого русского не забьется сердце при чтении этих строк:
Но не пошла Москва моя К нему с повинной головою.
Что до сатирической стороны, то ее нашли исполненной истины и прелести. Словом, если совершенный успех называть полным падением, то „Северная пчела“ совершенно права. Но когда в том же сегодняшнем номере этого листка я читаю такие же нападки на „Полтаву“ — поэму, читанную и перечитанную всеми, которую почитают одним из самых прекрасных творений нашего поэта, поэму, где каждый стих — это мысль, образ, совершенство, — невольно начинаешь думать, что издатель „Северной пчелы“ потешается над нами! Неужто пристрастие может заходить еще дальше?
Близкие друзья Александра Пушкина уверяют меня, что их никогда не удивляет красота его творений, которые являются только порождением его души. Один из них, весьма достойный молодой человек, не раз говаривал мне, что, если бы ему надо было доверить тайну или спросить совета, от которого зависела бы его жизнь, он без колебаний обратился бы к Александру Пушкину. Душа его, прибавил он, такая пламенная, такая чистая, что, если и есть в нем недостатки, они не могут ни на минуту затмить оную!
Санкт-Петербург, 22 марта (1830),
Садовая»
Елизавета Михайловна не вышла даже к обеду, и Долли, обеспокоенная поведением матери, пришла к ней и застала ее здоровой, бодрой, энергичной, склонившейся над бумагой. Она только махнула дочери рукой, дескать, не отвлекай меня, и вдогонку сказала ей:
— Вечером приготовься слушать мою защиту Александра Сергеевича.
После ужина она позвала к себе обеих дочерей и зятя.
Она читала горячо, увлеченно, очень медленно, чтобы слушатели прочувствовали каждое слово, бесконечно продуманное ею.
Письмо все одобрили. А Долли взволновало не так само письмо, как поступок матери. Она обняла Елизавету Михайловну и звонко поцеловала ее.
Две пародии
Митрополит Филарет, с которым Елизавета Михайловна была в большой дружбе, нередко приезжал к ней. Она