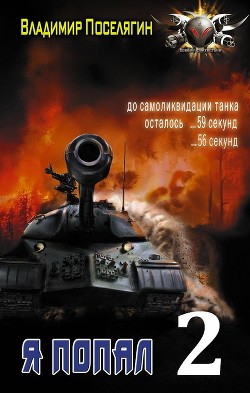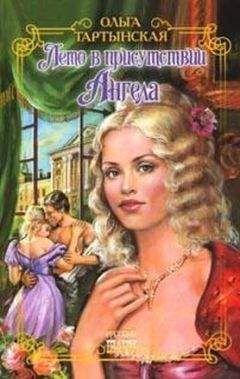Дожди в середине июля смыли лето, пусть по календарю оно ещё продолжается, ввергли меня в печаль, которая, с разной степенью интенсивности, продлится теперь до лета следующего. Спросите, а чёй так-то? Извольте, отвечу. С годами я стал любить только лето — и вот тут не спрашивайте почему! Остальные времена года проживаются теперь в два этапа: осенне-зимний упадок — с перерывом на Новый год — и весеннее возрождение. При чём тут июльский дождь? Всё просто. Лето, в моём понимании — пора, когда можно купаться. А дожди в середине июля в Новосибирске и обозримых окрестностях длятся минимум неделю. Пусть они и летние, пусть и ливни с грозами, но вот тёплыми, по сравнению со своими более молодыми собратьями, они уже не бывают. И если воздух после такого душа ещё может прогреться до вполне летних температур, то вода в реке остынет для этого сезона безвозвратно.
Впрочем, не об этом собираюсь я вам поведать. Но, прежде чем приступить, собственно, к рассказу, обязан предупредить, что история эта попала ко мне через вторые руки, а к вам, стало быть, дойдёт через третьи. И каждый из пересказчиков — такова человеческая натура — норовит добавить в неё что-то от себя, оставляя — я на это надеюсь, надейтесь и вы — саму суть не тронутой.
Если после этой преамбулы вы всё ещё готовы внимать — извольте!
***
Пётр, чтоб вы знали, мой старинный приятель. Другой разговор, что видимся мы в последнее время нечасто, от слова «весьма». Поэтому, когда за спиной прозвучало знакомое «Привет, старик!», я искренне возрадовался. К слову, обращение «Старик» было популярно, когда Петенька под стол пешком ходил. От взрослых разговоров, видимо, влетело ему в уши, да где-то там и застряло. Тогда как само обращение практически исчезло, поскольку из уст той молодёжи, что когда-то использовала его в дружеском общении, теперь звучит просто как констатация факта.
После обмена малозначимыми, но вполне понятными при встрече давно не видевшихся приятелей, сведениями прозвучала фраза; она возглавила историю, которой я и намерен с вами поделиться.
**
— Последнее время мой словарный запас, старик, пополнился изрядным количеством медицинских терминов. Знаешь почему?
Не дав времени поразмыслить над вопросом, Пётр сам на него ответил.
— Думаю, тут напрашиваются два основных варианта: либо я увлёкся медициной, либо медицина увлеклась мной.
Петя сделал паузу, куда я, как вежливый собеседник, должен был хоть что-то вставить.
— И?
— Второе!
Я более внимательно смотрел на приятеля, отыскивая изменения, отличные от банального «постарел на несколько месяцев», и слушал, слушал, слушал…
**
— Когда совсем мелким я испытывал боль, то звал маму, и она мчалась ко мне с неотвратимостью курьерского поезда: быстро и без остановок. До сих пор помню озабоченный, полный сочувствия взгляд моей мамы, её ладонь на моём лбу, родной и такой далёкий теперь — увы! — голос: «Что с тобой? Никак занемог мой Петя — петушок?» И от этого тёплого взгляда, родного голоса и ласковых рук мне становилось хоть на немного, но легче. Но мама давно на небесах, и если и слышала меня в тот миг оттуда, то реально помочь уже ничем не могла. А боль за грудиной становилась всё сильнее. Стало приходить понимание, что на этот раз — были, были разы и другие! — лёгким испугом не отделаться. Попытка принять обезболивающее пользы не принесла, и как я теперь понимаю, была отчаянно глупа. Когда тело покрылось холодным потом, я стал вспоминать, — господи, да и знал ли я это вообще?! — как теперь вызывают скорую помощь. По счастью, из прихожей раздался шум открывающейся двери — вернулась с работы жена. Дальше мне оставалось, только сидя на диване, — лежать я уже не мог — стараться по возможности сдерживать стоны и дожидаться прибытия врача. И он довольно быстро — повезло! — оказался возле меня. Далее последовала знакомая для тех, кто через это прошёл, процедура: осмотр, диагностирование острого инфаркта, гонка с завыванием по вечерним улицам, приёмный покой кардиологического центра, реанимационное отделение, операционная, снова реанимационное отделение… — Петя на время замолк. Взгляд моего приятеля странным образом изменился, словно он сам удивлялся произнесённым далее словам. — Я где-то читал, что при остром инфаркте человек испытывает страх смерти. А у меня было лишь желание, чтобы уменьшилась боль. И когда врач скорой вколол морфий и боль утихла я, веришь ли, реально успокоился. Ну, не на сто процентов, конечно, но достаточно, чтобы верить в то, что мне помогут. А о смерти нет, мыслей не было. Потом на койке в реанимации, абсолютно голый под белой простынёй, опутанный проводами, идущими к пищащим за головой приборам, поймал себя на мысли: вот оно место, откуда отправляются либо в чистилище, либо назад в нормальную жизнь.
Вновь возникла пауза.
— И когда с тобой случилось это… — начал я её (паузу) заполнять и осёкся, подбирая подходящее для продолжения слово. Беда, несчастье, происшествие — нет, всё не то!
— Ладно, старик, расслабься, — усмехнулся приятель моим потугам. — Вопрос я понял. И можешь не верить, но бабахнуло меня аккурат в тот день, когда началась заварушка, поименованная Специальной военной операцией. Нет, нет, — угадывая по изменившемуся выражению лица мой следующий вопрос, поспешил сразу откреститься от него Петя. — Никакого отношения к моему инфаркту это событие не имело, просто так совпало. Посуди сам: мог ли столь далёкий тогда от политики человек, как я, схватить удар как раз по политическим мотивам? Я, старик, эту политическую кухню с детства не переваривал. В больших дозах приготовленные там блюда не принимал, вообще, боясь отравиться. В дозах малых — от чего я, как член социума, отказаться, сам понимаешь, не мог — у меня от них возникала изжога. Потому и после выписки из больницы я эту, связанную с Украиной, шумиху добросовестно пропускал мимо ушей. В немалой степени способствовало этому и то, что лично меня эти события практически не коснулись, включая работу. Да и забота о собственном здоровье оттягивала на себя все свободные мысли, не говоря уже о времени, которое я тратил на забеги по поликлиникам и аптекам. Пришлось ведь,