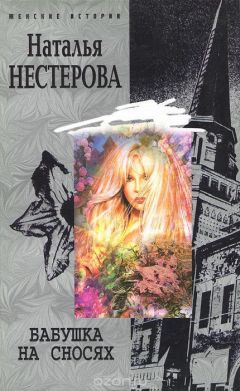— Конечно, на стадион.
— А сейчас давай разберем пистолет. Ты должен знать его устройство.
Прошло не больше часа, и Рустем спрятал пистолет в карман. Он готов был стать бойцом. Он готов был в дорогу. Его глаза смотрели спокойно и я подумал о том, как рано пришлось ему стать взрослым, — мяч бы гонять да на солнышке загорать, да смеяться, да за птицей следить высокой. Но вот война подошла к порогу твоего дома...
Проводил я его до вокзала на машине. Не стану описывать, как прощался с ним. Будто в последний раз видел черные глаза, в последний раз держал его руку. Сказать бы ему слова особенные, потрепать по голове, но мы простились молча.
— Держись поближе к кухне в дороге, — сказал я. — С гвардейцами едешь.
Глаза улыбнулись.
— Постараюсь.
— Вот и все, иди в вагон. Дай обниму.
— Мать с отцом успокойте.
— Обязательно.
Вернувшись в Казань, я с головой окунулся в работу. Лишь изредка я думал: как он там? Кто с ним рядом? Не мерзнет ли по ночам? Что-то не пишет, не подкралась ли беда?
Наконец я получил письмо. Его принесли утром и секретарша удивилась, увидев, как я просиял — она привыкла видеть меня хмурым и, наверно, думала, что я и улыбаться-то разучился. Письмо было коротким.
«Дядя Яков!
Воюю! Не писал раньше, потому что хотел выполнить слово, которое дал вам. Я не хвастаюсь — десять фашистов узнали, что такое Россия.
Адреса у меня нет. Если долго не будет от меня писем, значит нельзя писать, но я жив и бью фашистов. Как у нас дома? Привет бы передать всем.
Расад».Смотри-ка, — Расад, Рустем Асадуллин. Воюй, мой мальчик, остерегайся шальной пули, а когда война кончится...»
За поездом по верхушкам сосен катилось солнце. Оно уже занималось костром заката, когда эшелон прибыл на станцию. Быстро разгрузились, по широким настилам скатили машины, пушки. Было тихо. За дорогой начиналось поле. Ветер шел по кончикам поднявшихся колосьев, настороженный, едва приметный. Казалось, вот-вот сорвется он и упадет волнами на рожь.
По глухой тишине и стрекоту кузнечиков никак не верилось, что совсем недалеко проходит фронт, но из ржи смотрели в небо зенитки, а вокруг дороги чернели вывороченной землей воронки.
Кто-то вдруг крикнул:
— Воздух! В рожь!
У обочины остались замаскированные ветками машины. Рустем тоже побежал в рожь. Но небо было пустым. Оставленное солнцем, оно несло большое облако, и никаких самолетов не было. Рустему не терпелось увидеть их — и любопытно, и страшно.
Рядом в ложбинке лежали два солдата. Рустем подполз к ним и прислушался к разговору. Пожилой солдат спокойно смотрел в небо. Он будто и не боялся ничего, а просто прилег отдохнуть и вот задумался — наверно, вспомнил дом.
Второй, молодой и смуглолицый, сняв пилотку, глядел беспокойно — видно и он впервые, как Рустем, ждал самолетов.
— Ну что, увидел?
— Чего?
— Самолет. Не елозь, ложись и жди. Сегодня ночью много идти придется, дай ногам отдых.
— Откуда ты знаешь, что ночью?
— А ты, видать, к войне непривычный. В новинку тебе все.
— В первый раз я...
— Тогда других слушай, пока не обвыкнешь. Ложись. А ночью, я предполагаю, долгонько нам идти... Прилетел, голубчик, закружился, вот тебя сейчас угостят, — проговорил пожилой солдат, с прищуром вглядевшись в облако.
— Слышишь, верещит, фашистская «рама».
И вот показался самолет с крестами на крыльях. Тут же ухнули зенитки.
— Никому не стрелять, — передали по цепи. Но кто-то не выдержал и выстрелил несколько раз подряд.
— Вот дурень! — сказал солдат. — Зенитка бьет, взять не может, а он из винтовки. Герой!
— Пусть стреляет. Случайность может быть.
— Умный ты, гляжу. Обучишься. Ты думаешь, она бомбить пришла, «рама»-то? Вот полетает, полетает, засечет, что надо, и по радио передаст своим бомбардировщикам — мол, на станции стоит эшелон, по дороге шла колонна, укрылась во ржи, один дурак стрелял оттуда. Понял? А те и тут как тут... Вот видал — смывается. Не сбили. Теперь жди гостей. Самое лучшее ночью — темнота. А сейчас придется место менять.
И действительно, раздалась команда:
— Выходи, стройся!
Полк двинулся дальше. Рустему не хотелось расставаться с добродушным, видавшим виды солдатом, и он пристроился с краю колонны, стараясь шагать в ногу.
— Откуда? — спросил солдат.
Рустем вздрогнул и прикрыл глаза ладонью. Неужели глаза увидел и спрашивает. А если ответить? Кажется, что и говорить-то разучился.
— Из Казани я, — опередил Рустема молодой солдат. Рустем опустил голову — очень хотелось ему заговорить, сказать: — «Вот я, я тоже иду с вами, меня только не видно...»
— Татарин, значит, если из Казани?
— Да.
— А я из Сибири. Был когда-нибудь у нас?
— Нет.
— Много потерял. Сибирь, она вот где у меня, — солдат положил руку на грудь. — Считай, половина России-матушки. И татары у нас там есть.
Он словно припоминал что-то и посветлел лицом. Пыль лежала на его погонах.
— Слыхал про Хасана Гумерова?
— Нет.
— Да-аа... Никак у нас с тобой разговор не получается. В Сибири ты не был, Хасана Гумерова не знаешь. А что знаешь?
Молодой солдат обиделся. Даже отвернулся куда-то в сторону: дескать, говори себе, а я вот и не гляжу на тебя. И вдруг, резко повернувшись к старому солдату, отрезал:
— Ничего я не знаю. Хасана Гумерова не знаю, Сибири твоей не знаю.
— Осерчал. Эх, голова. Шучу же я. Шутка — минутка, а веселит час. Я, что ли, виноват, если ты Сибири моей не видел, по тайге с ружьишком не лазил. А Хасан Гумеров друг мне, понимаешь, воевали вместе. Вот и медаль на пару взяли. — У старого солдата на груди светилась медаль «За отвагу». — Гумеров, он тоже из Казани, с лица только другой, да и ростом пониже, а парень что надо. Отстал я от него, пока в госпиталях отлеживался. Ладно бы жив он был, случится — встретимся... А тебя как звать?
— Фатых Уразаев.
— А я Федор Громов. Вот и хорошо мы с тобой познакомились. Человек человека греет. — Солдат что-то вспомнил и, улыбнувшись, пошевелил усами. — И воевать я тебя научу. В атаку идешь, Фатых, не думаешь о смерти. Забываешь. Тут у тебя перед глазами враг, и злость на него поднимается. Ужасно большая злость. Пуля подле уха посвистывает, смерть играет. Кто потрусливее, того она и находит. Главное, не трусить. На меня вот один фриц бежал, а я ему как крикну: « — Их бин сибиряк Федор Громов!», то-есть по-ихнему это значит: «Я сибиряк Федор Громов», — гляжу, фашист и споткнулся, а тут и конец ему. Знай наших, а я еще пуще ору: « — Их бин сибиряк Громов», — страху нагоняю. А на меня глядя и Хасан как свистнет да аукнет:
« — Их бин татарин Хасан Гумеров!». ...Да ты под ноги-то не гляди, голову повыше подними, ногам станет легче. Пообвыкнешь. Военная жизнь сразу не дается.
Рустем не отрывал глаз от бойкого солдата. Возле него совсем не страшно было, но Рустем устал. Прилечь бы на траву и заснуть. Он и сам не заметил, как отстал и присел у березы, вытянув ноги. Полк шел мимо. Запыленные гимнастерки, загорелые лица, выцветшие на солнце пилотки, тяжелый шаг, гряда пыли вдоль колонны. За колонной показались машины. Рустем обрадовался и забрался в кузов. Так он проехал несколько минут и, утомленный, было задремал, но скоро опять прокатилась команда:
— Воздух!
Дорога опустела. Машины остановились. Гул повис в воздухе. Вылезать из кузова не хотелось. Закинув голову, Рустем принялся считать самолеты: один, два, три... пять... десять. И тут началось! Рустем зажал уши — визг и грохот окружили его, казалось, никуда от этого ужаса не спрятаться. Самолеты пикировали и сбрасывали бомбы. Били зенитки, но их почти не было слышно. Больше всего бомбили станцию. Оттуда поднимался дым. И там, где раньше во ржи прятался полк, тоже было темно от клубящегося дыма. Два самолета кружили над дорогой. Плавно разворачиваясь, они заходили с разных сторон, а Рустем зажмуривался и прижимал ладони к ушам. Какая-то сила выбросила его из машины, и он очнулся в придорожной канаве. Грохот стих, и всплыла тишина, но ненадолго — все началось снова.
Припав к земле, Рустем ждал, когда самолеты уйдут.
Одному под открытым небом было не по себе. «Найти бы Громова» — подумал он.
— Наши летят! — крикнул кто-то.
— Ага, удирают!
Немцы ушли. Наши истребители приклеились к их хвостам. Воздушный бой разгорелся за лесом.
Солдаты выходили из ржи на дорогу. Закуривали. Раненых пронесли в машины. Немного погодя раздался залп, Рустем кинулся туда. Возле телеграфного столба, сжав в кулаках пилотки, стояли солдаты у свежей могилы. На фанере, прибитой к столбу, было написано несколько фамилий. Одна из них оказалась знакомой — Фатых Уразаев.