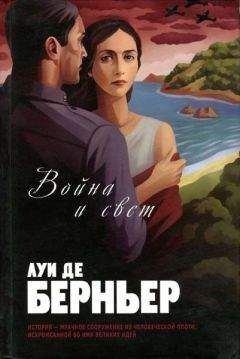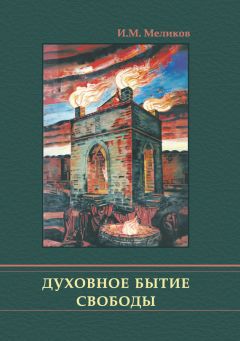Лейла-ханым отвела меня обратно, по всякому заплетала и расплетала мне косы перед зеркалом, и даже маленько рассмешила чудной прической, а потом ласково погладила шею, поцеловала в щеку и сказала: как Дросула вышла за Герасима, я для нее не просто служанка и горничная. Она обняла меня, и я успокоилась.
Я рассказала, как перехватывает горло и сводит живот, будто от голода, о беспокойстве и дрожи, о нескончаемой надежде, о том, что он повсюду видится, и Лейла сказала:
— Я знаю для этого слово.
— Скажите мне, — попросила я.
— Это слово агапи[115].
— Что оно означает?
Лейла рассмеялась:
— Глупышка, все, о чем ты сейчас рассказала.
— Какой это язык?
— Обещаешь не болтать?
— Обещаю.
— Греческий. Хочешь узнать, как сказать любимому, что ты чувствуешь, когда ты в его постели или вы одни на лугу, и он лежит на тебе?
Я покраснела и ответила:
— Хочу, Лейла-ханым.
— Ты называешь его агапи му.
— Агапи му, агапи му, — повторяла я, пока не запомнила.
— А когда хочешь сказать, что у тебя на сердце, когда чувства переполняют и просятся наружу, говоришь с'агапо.
— С’агапо, с’агапо, с’агапо, — повторила я.
— Теперь скажи: С’агапо, агапи му.
— С’агапо, агапи му, с’агапо, агапи му.
Лейла погладила меня по щеке.
— Это язык твоих предков, который здешние христиане понемногу забыли.
— А в моем родном языке таких слов нет? — спросила я.
— Конечно, есть, глупенькая, но греческий — лучший язык для любви.
Каждую ночь я перед сном представляла Ибрагима, такого близкого и такого далекого, говорила ему с’агапо, с’агапо, с’агапо, а потом видела любимого во сне, бежала к нему средь гробниц и звала его агапи му. И я поняла — Лейла-ханым сказала правду: эти слова лучше всех слов во всех языках на свете, они самые красивые и выражают все, что я хотела сказать.
И снова отец Христофор метался во сне, где хоронили Бога. Сон повторялся в тысяче бесконечных вариаций и временами повергал священника в полнейший раздрызг. Лидия-яловка тревожилась: муж бледный, под глазами темные круги, но никакие снадобья не даровали ему безмятежного сна. В нынешней версии господних похорон отец Христофор служил панихиду, а ангел Азраэль, чье злобное аристократическое лицо сияло вожделением смерти, выступал могильщиком. Христофора шокировали непочтительные замечания Азраэля о состоянии трупа, и он проснулся на рассвете от собственных негодующих криков именно в тот момент, когда в город прибыли жандармы.
Ими командовал все тот же сержант Осман, что много лет назад приходил за новобранцами и записал Каратавука на службу вместо отца. Сержант сильно постарел — сказывались старые раны и многолетние тяготы. Стала заметнее хромота и порой мучила одышка — проблема, которую сержант пытался решить беспрестанным курением, отчего его пышные усы окрасились разнообразными оттенками бурого и коричневато-желтого. Он по-прежнему считал себя настоящим солдатом, и гордость помогала сохранять военную выправку и изъясняться просто и прямо. Совершив многодневный марш из Телмессоса, сержант Осман тотчас отправился к цирюльнику, затем, посвежевший и благоухающий лимонным одеколоном, обосновал на площади контору под тем же платаном, откуда в давние времена руководил призывом новобранцев, и командировал жандармов ознакомить население с его приказом.
Поначалу никто жандармам не поверил, но вскоре выяснилось, что те не шутят. Сержант Осман приказывал всем христианам города собраться на площади, чтобы идти в Телмессос, откуда их кораблями перевезут в Грецию. Ни транспорта, ни провизии, ни денег для свершения сего подвига сержанту не дали. Вскоре его осаждала толпа близких к истерике христиан.
— Как же мой дом?
— Заприте.
— А скотина?
— Пусть соседи приглядят. Или продайте.
— У меня больная мать. Как с ней-то?
— Оставаться никому нельзя.
— Мой сын уехал на три дня. Куда ему потом деваться?
— Его отправят следом.
— Как быть с самоваром? Он очень ценный.
— Не берите ничего, что не сможете донести до порта. Разумнее взять еду и одежду.
— У меня завтра встреча насчет покупки земли.
— Отменяется.
— Что делать с пожитками? У меня повозки нет.
Сержант Осман поднял руки, призывая всех замолчать.
— Слушайте все. На новом месте вы получите полную компенсацию за все, чего лишились. Вам выдадут справки.
— Когда? Где?
— Точно не знаю. Думаю, с этим разберутся в Телмессосе.
— Где эта Греция?
— За морем. Недалеко. Не волнуйтесь, о вас позаботятся греки и франки. Они подыщут вам новые дома, не хуже старых.
— Эти греки оттоманы, как и мы?
— Нет, отныне вы не оттоманы, а греки. И мы больше не оттоманы, мы турки. — Сержант развел руками и пожал плечами: — Кто его знает, что будет завтра. Может, мы станем кем-то еще, вы будете неграми, а кролики — кошками.
В домах растерянные христиане пытались управиться с невыполнимой задачей — что брать? Некоторые семьи летом всегда уводили скотину на горные пастбища и привыкли к дальним переходам со всем скарбом, но даже им не приходилось собираться в такой спешке и неопределенности. Совершенно сбитые с толку, люди вдруг погрузились в крайние эмоциональные состояния: одни потрясенно молчали, другие истерически рыдали, а третьи остервенело бормотали об ослушании и неподчинении, мол, спрятаться, пока жандармы не уйдут, а сами тем временем покорно собирали пожитки.
Одни брали только воду и еду, другие сочли, что лучше взять на продажу ценности — медные кастрюли и украшения из приданого. Кто-то за бесценок распродавал хозяйство соседям, полагая, что деньги будут полезнее вещей. Одни откладывали дорогие сердцу безделушки, другие, выискивая, что может пригодиться, ошалело хватали мотки веревки и тяпки. Наблюдался один из тех крайне редких случаев, когда воистину блаженны неимущие, ибо значительная часть людей жила в столь стесненных обстоятельствах, что выбор был относительно невелик. Эти смиренные души связали в узлы то немногое, что имели, и собрались на площади. И лишь попрошайки из христиан, что еще смиреннее, полнились не отчаяньем, но оптимизмом. Среди них были сумасшедшие, полоумные и бездельники, но все вдруг обрели надежду на новую лучшую жизнь в новых краях. Они пойдут за колонной переселенцев, клянча милостыню у тех, кому нечего дать. Пса в их числе не было. Он остался среди гробниц; все разделения по племенам и религиям его миновали благодаря добродетели немоты, увечья и отшельнической жизни. Остались в борделе и христианские проститутки, тоже избавленные от разделения по нации и вере добродетелью своей профессии.
Истинные неприятности для сержанта Османа начались, когда пришло время построить людей и двинуться в путь. Во-первых, возникла проблема учителя.
Казалось, христиане готовы наконец к отправке, но тут на площади появился Леонид-учитель: вконец отощавший, взъерошенный, с заляпанными стеклами очков, в истасканной и засаленной франкской одежде. Поскольку никто не счел нужным его оповестить, а друзей или родственников, кто мог бы это сделать, у него в городе не имелось, Леонид до последней минуты не знал о том, что вот-вот должно было случиться.
Для большинства христиан происходящее стало личной бедой, для Леонида же еще политической и идеологической. Мечты его испарялись на глазах. Воспламененный отвагой оскорбленного, он нашел в себе смелость неловко вскарабкаться на стол под платаном, где городские жандармы имели обыкновение разыгрывать нескончаемые партии в нарды.
Вспотевшего Леонида била дрожь, но он замахал руками и закричал, привлекая внимание переминавшейся толпы:
— Друзья! Друзья! Слушайте! Послушайте меня! Вы должны меня выслушать!
— Слезь и заткнись, идиот, — приказал снизу сержант Осман, но учитель им пренебрег:
— Послушайте! Да послушайте же!
В этом тонком глухом голосе слышалось нечто столь отчаянное и повелительное, что даже сержанту Осману захотелось узнать, о чем речь, и он придержал руку жандарма, готового прикладом двинуть Леонида под коленку.
— Ладно, — сказал сержант. — Валяй, чего там у тебя, только поторопись. Чтоб в двух словах.
Никто не знал, что хочет сказать Леонид, но его поступок всех слегка потряс. Люди смолкли, все лица обратились к учителю, а он выразительно вскинул руки.
— Мы живем здесь с древних времен, — заговорил Леонид, будто начиная урок. — Это наш дом. В дни расцвета наши предки возвели великолепные строения, которые теперь повсюду лежат в руинах. У нас была величайшая в мировой истории цивилизация. Вам говорят, что вас отправляют в Грецию, но все это и было Грецией. И снова должно стать Грецией. Греция здесь. Мы греки, и это наш греческий дом. Нам нельзя уходить. Здесь чужестранцы — турки. Они прибыли сюда гораздо позже нас. Возвращайтесь по домам. Мы все должны отказаться уйти. Здесь наш дом. Это Греция. Это земля Патриарха. Мы должны отказаться. Оставайтесь здесь ради любви к Греции и во имя любви к Богу. — Леонид уронил руки, но тотчас снова их вскинул, умоляюще воздев ладони.