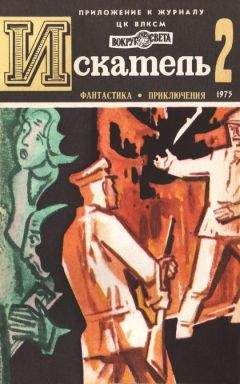«Саш получил твое письмо оч. рад. Я ж говорил Пава добренький, а такие как Марийка у кот. танцы и пр. мура в галове этим только наруку. Эх отпустили бы меня в Кр. я б навел порядок, кругом шашнадцать! Оч. хочу в Кр. хоть на денек прискочить. Но у нас занятия идут плотно, не выскочиш. Дисц. требуют днем и ноч. Чуть что нарушил иди чисть гальюн. Он у нас аж блистит. Саш я знаишь почему в Кр. хочу? Вот ты пишешь тебе жалко что я уехал. Я эти твои слова читаю и перечитываю милн. раз и больше. Меня потому в Кр. тянет что я на тебя хочу посмотреть. Говорят у нас летом будет практика в Кр. Скорей бы лето Саш! Летом с тобой увидимся неприменно. С комс. приветом Костя. 23 ноябр. 22 г.».
«Саш почему не даешь ответ на мое письмо? Я еще в ноябре написал. Если я тебя чем обидил ты прямо напиши. Только ничем я обидить тебя не мог потому что такого не может быть. Я сама знаишь как к тебе отношусь. У нас занятия на полный ход. С математикой немного легче, даже нравится теперь. После нового года начнутся зачеты, ну я надеюсь не последним буду. Зиму переживем а там и лето скоро. Скорей бы! Саш напиши, а то я скучаю оч. Костя. 25 дек. 22 г.».
«Сашенька почему не пишешь? Я жду оч. а ты не пишешь. Саша напиши оч. прошу. В голову ничего не лезет. Я зачеты сдал хор. а теперь мучаюсь не могу себя заставить сесть за уроки. Саш напиши! Костя. 18 янв. 23 г.».
«Здравствуй Саша! Это пишет некто Братухин Костя. Мы весь июнь были в Кр. жили в Сев. каз. работали на „Трефолеве“, драили, вычистили корабль аж блистит весь. Теперь кончается шлюпочная практика, потом нашу роту обратно в Питер. Занятия оч. плотные. Я пишу тебе чтоб поздравить. Я еще в феврале от ребят узнал, что ты вышла за Чернышева Василия. Я его сам с тобой познакомил в порядке шефства и помощи. Оч. за тебя рад. Позавчера мы шли строем по Июльской песню орали, вдруг вижу ты идешь. Оч. обрадовался. Братухин. 6 июля 23 г.».
«Здравствуй, Саша! Почему-то захотелось тебе написать, поздравить с Октябрем. Все-таки когда-то были в одной комс. ячейке. Часто вспоминаю кр. денечки. Меня оч. тянуло после окончания училища в родной Кр., но начальству виднее, кому куда. Я нынешним летом окончил воен. — мор. училище им. Фрунзе, теперь командир РККФ 4-й категории, и направили меня в Севастополь на крейсер „К. К.“, понимаешь? У меня теперь каюта. Командую одной из батарей. Все хорошо, служба нравится оч. А Севаст. какой город? Весь белый, в зелени. Правда в городе почти не бываю, оч. напряженная боев. и полит. подготовка. Скучать нет времени. Надеюсь, у тебя все в порядке. Слыхал, у тебя дочка растет. Желаю ей и тебе счастья. Привет твоему мужу, я ведь его знал. Братухин. 20 окт. 26 г.».
А ниже приписано торопливо: «Может, напишешь пару строк? Все же знакомые люди. Никогда себе не прощу собственной узколобости».
— Надя! — слышит она голос Козырева. — Надя, ты где? Он заглядывает в чернышевскую комнату.
— Здесь! — Надя срывается с места, бежит к Козыреву, кинулась ему на шею. — Здесь я, здесь… Андрюшенька, родной, люби меня… Всегда меня люби…
Весь декабрь не было писем из Саратова. У Иноземцева сделалось скверное настроение. Раньше за ним не водилось, чтоб настроение на других срывать. А теперь — сорвался вдруг, накричал на Фарафонова за пустячную провинность, что-то там не успели подшабрить в положенный срок. Напустился на Бурмистрова, сачком обозвал. Он и есть сачок, Бурмистров, да только орать не надо, не надо…
А все — из-за этого «воздыхателя», вдруг объявившегося в саратовском госпитале. Писала Людмила в последнем письме, что разыскал ее каким-то образом один бакинец, одноклассник, раненный под Сталинградом. «Мы с ним дружили в школе, — писала, — могу даже признаться, что он был моим воздыхателем (без взаимности, не волнуйся). Учился средненько, но здорово играл в шахматы, был в школе первой доской. Никогда бы не подумала, что он станет таким воякой. А он после школы пошел в артиллерийское училище, кажется, в Тбилиси, оттуда их курс бросили на фронт…»
Ничего особенного в письме не было — ну, одноклассник, ну, случайно встретились. Но, видно, взыграло у Иноземцева воображение. Чудилась ему меж строчек Люсиного письма радость от встречи с «воздыхателем», лезли в голову неприятные мысли.
В то воскресенье Иноземцев, мрачный от горьких мыслей о Саратове, вошел в кают-компанию — и замер, увидев сияющее женское лицо. Женщина сидела рядом с Козыревым, в розовом платье с бантом. Она была не похожа на закутанную в огромный платок девушку со скорбным лицом, приходившую в прошлую зиму. Но, конечно, это была она, Надя, предмет тайных иноземцевских мучений, вдруг просиявшая, новая.
— Поздравьте, Юрий Михайлыч, командира, — сказал Балыкин, — с законным браком.
Законный брак! Иноземцев, пораженный, не сразу обрел дар речи. Козырев и Надя засмеялись, глядя, как он хлопал глазами. Поздравив новобрачных, Иноземцев налил себе горохового супу, но, можно сказать, совсем не почувствовал его вкуса. Новость оглушила его. И опять, как прошлой зимой, ожила и зашевелилась на дне души ревность.
Как странно все это (думал он, встревоженный, расстроенный). Как странно! Война, блокада — и законный брак… Понятно, когда мужчина воюет, а женщина где-то в дальнем тылу ждет его. Или не ждет?.. Все понятно… Но в Кронштадте все не так. Здесь военно-морская база с кораблями, линия огня, фронт — и в то же время город с мирным населением… с женщинами… Как странно! Полумертвая от голода девушка, чьи приходы вызывали прошлой зимой недовольство в команде, вдруг возвращается на корабль как жена его командира. Так сказать, мать-командирша… Ее серые глазки — трагически печальные прежде — теперь сияют счастьем. В ее честь произносит тост комиссар, который не потерпел бы ее присутствия прошлой зимой. Потому что законный брак! Выходит, это совместимо — война и женитьба, война и… страшно вымолвить… любовь?
А я — мог бы я жениться на Люсе, будь она здесь? Что у нас за любовь? Любовь в письмах? Вот целый месяц она не пишет, и меня уже одолевают сомнения… Черт бы побрал этих одноклассников!
Разговор за столом сливался в ровный гул — будто от работающих дизелей. Вдруг Иноземцев услыхал выделившуюся из гула фразу:
— Не только Перекоп с Волочаевкой, а огромная военная история за плечами у нас.
— Кто ж отрицает? — сказал Балыкин. — Вот и надо тебе, командир, почаще выступать с лекциями о победах русского флота.
— Хорошо, что вспомнили Ушакова, Нахимова, — гнул свою линию Козырев. — А то ведь как воспитывали? Ничего не было раньше, кроме линьков да мордобоя. А был славный флот! Отсюда, из Кронштадта, между прочим, уходили в знаменитые плавания Крузенштерн, Лисянский, Головнин…
— Преувеличиваешь, Андрей Константинович. Не так уж однобоко изучали мы историю.
— Не однобоко? — Козырев с какой-то хищной улыбкой воззрился на Балыкина. Надя, обеспокоенная горячностью мужа, коснулась локтем его руки, но тот и не заметил осторожного прикосновения. — Вот я запомнил: в тридцать девятом, в ноябре, попалась мне в одном нашем журнале статья. Отмечалась двадцать пятая годовщина потопления «Эмдена». Помнишь? Германский рейдер. Его английские корабли настигли в Индийском океане и потопили.
— Ну и что? — недовольно помигал Балыкин.
— В журнале расписывалось, какие молодцы моряки кайзера. Как они храбро дрались против коварных англичан.
— Не знаю. Не читал.
— Но я-то читал! И глазам не верил. Как же можно так? Именно однобоко! Раз у нас с Германией пакт, значит, они хорошие, а англичане плохие?
— Мало ли что напишут, — хмуро сказал Балыкин. — А пакт надо было выполнять. Не мы его разорвали. Неси, Помилуйко, второе.
— Я знаешь что подумал, Николай Иваныч? Если б не пакт, то, может, немцы не доперли бы до Ленинграда, до Сталинграда. При чем тут пакт? А при том, что он ослабил нашу бдительность к фашизму. Или нет? Прикрыл их оперативные планы улыбочкой Риббентропа.
— Вредные мысли, — строго сказал Балыкин. — Советую выбросить из головы. Ясно сказано о причинах временных успехов немецкой армии. Во-первых…
— Да знаю, Николай Иваныч, все пункты знаю. Просто иногда как задумаешься…
— Поменьше задумывайся, Андрей Константиныч.
— Ладно, все. Выбросили из головы. Давайте еще по махонькой. За наш гвардейский корабль!
Козырев был очень оживлен, улыбчив, он то и дело взглядывал на свое божество. А от Нади по темно-коричневой кают-компании, где и днем горел холодноглазый плафон, казалось, распространялось мерцающее сияние. Будто нежный нездешний цветок, случайно перепутав место и сроки цветения, распустился вдруг в железной мастерской.
— Что-то у нас механик не весел, — сказал Козырев. — Не гвардейский какой-то вид.